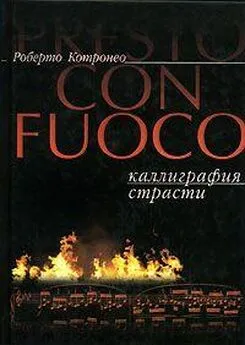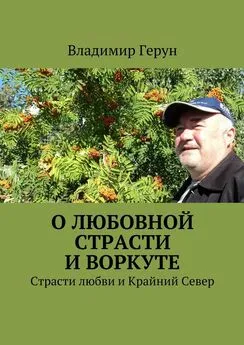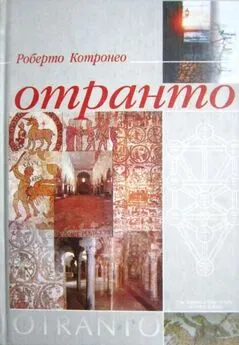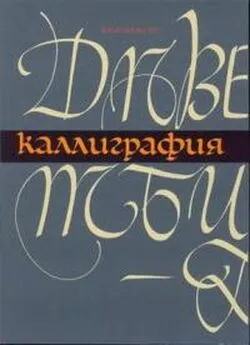Роберто Котронео - Каллиграфия страсти
- Название:Каллиграфия страсти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2002
- Город:СПб
- ISBN:5-89329-489-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберто Котронео - Каллиграфия страсти краткое содержание
Каллиграфия страсти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я уже слишком стар для нее, и все чаще мне случается замечать, что я слишком стар и для себя самого. То единственное фортепиано, на котором я теперь играю, редко имеет ноты на пюпитре: теперь я почти все играю наизусть, предпочитая пренебрегать крошечными значками, что сопровождали меня всю жизнь. Только заветная рукопись лежит раскрытая на рабочем столе, словно книга, которую мне необходимо читать каждый вечер, хотя я и знаю ее вдоль и поперек. Это книга моей жизни, моей одержимости Шопеном и его веком, и всеми женщинами, которых я любил, и тем чувством мучительной неловкости, что я испытывал от невозможности человеческого сближения. То была моя вина, что я предпочел язык тела, ибо музыкальные занятия, концерты, да и сама музыка — не что иное, как чувственное наречие плоти. Для меня не составляло разницы, прикасались ли мои пальцы к клавишам или ласкали грудь женщины, даже имени которой я не успел узнать.
Если начать чертить на бумаге совершено произвольные линии в разных направлениях, то обязательно найдется точка, где они все сойдутся. Войти во владение драгоценной рукописью — большое везение, которого могло и не быть: она могла попасть не ко мне, а в Польский музей, что был рядом с моим парижским домом. Я не верю в Книгу Жизни, где все предначертано. Если она и существует, то мне она недоступна. Что могла дать мне рукопись? Смог бы я удержать возле себя юную Соланж? Открыл бы что-нибудь сверх того, что было в сгоревших письмах? Расшифровал бы жизнь и драмы собственной семьи? Но ведь все письма сгорели, прежде чем я успел их прочесть. Мне остается лишь застыть в изумлении перед этой загадочной и, я знаю теперь, страшной партитурой.
Никто не видел этих страниц после Джеймса и Соланж. Джеймса уже нет, а Соланж слишком молода, чтобы иметь терпение что-то отыскивать в рукописи, пришедшей из мира, который она никогда не поймет и которому никогда не будет принадлежать. Евгений исчез вместе со своими бедами и воспоминаниями. И одному Богу известно, довелось ли ему услышать, как я играл коду Четвертой Баллады. Когда заходящее солнце освещает Юнгфрау, меня охватывает тоска. Можно было бы подарить эти страницы кому-нибудь из молодых пианистов, чтобы записать их. Но думаю, что это будет пустой тратой времени: начнется бесконечная полемика, таинственная рукопись будет анатомирована, а биографы Шопена затаят на меня злобу. Они не переносят, когда кто-то ставит под сомнение суть отношений Шопена и Соланж. И, наконец, как вывести на свет божий ту часть истории, которая касается меня, моей семьи и моей Соланж?
Я последний в мире пианист, кто мог бы записать эти страницы, последний, у кого был учитель, родившийся в 1858 году. Ему было шестьдесят, а мне всего восемь, и я уже превосходно играл Первую и Третью Баллады, все Прелюдии и большинство Этюдов.
Мой маэстро знал Листа и Пуччини, был представлен Брамсу, которому играл свой первый концерт для фортепиано с оркестром. Он всегда говорил мне: «Остерегайся Шумана, он может внушить мысли темные и мрачные, у него с головой был непорядок, и с музыкой тоже». И читал мне на память Бодлера. Я пугался и прятал ноты Шумана.
Скольких вещей я не сыграл за свою жизнь: потому, что питал к ним отвращение или они пугали меня, а еще потому, что в них были пассажи, которые я никогда бы не написал. Я всегда относился к музыке, как к чему-то живому, что я должен выбирать, не глядя на величие композитора. Нынче пианисты не позволяют себе иметь мнения: максимум — умолчания, упущения, словом, сильно полинявшую и ощипанную форму выбора. Я их понимаю и не слишком упрекаю за это. Платье моего маэстро хранило запах старинных портьер Брамса. Я вдыхал этот аромат старой Европы, которой давным-давно уже нет. Здесь же чувствуется только чистота воздуха сих здоровых и слегка нудных краев. Здесь даже грех, всегда побуждавший меня так прекрасно играть, перестает быть мне опорой, а ведь для меня виртуозность была оружием захвата, единственным, которым я владел в совершенстве. Я вдыхал запах портьер Брамса и ароматы всевозможных женских духов: я возвеличил свои желания и слабости, замешивая их на непостижимой силе таланта. Я был режиссером исчезающего мира, может быть последним, кто закроет за собой дверь и оставит всех остальных снаружи слушать посредственных пианистов с блестящей техникой, способных лишь воспроизвести все ноты. Остальное доделают инженеры звукозаписи, которые сумели превратить Гульда во Франкенштейна фортепиано.
И сдается мне, что Соланж тоже останется по ту сторону двери. Весь мой мир — мир исчезнувший, его никому больше не понятные законы удерживаются лишь силой моего таланта и известности. Я могу еще услышать давно сыгранную музыку, встретить людей, которые расскажут о давних концертах и композиторах, которых я в жизни не играл. Даже женские лица, заполнявшие в моей жизни пространства, свободные от музыки, я различаю теперь с трудом: от их обладательниц остались лишь жесты чувственности, а они у всех женщин одинаковы.
Однажды я получил письмо без обратного адреса, почерк на конверте был женский, кириллица на марке говорила о том, что письмо послано из России. Я не сразу вскрыл его, боялся, что прочту что-нибудь вроде: «Нам известно, что рукопись у тебя» или «Я племянник Андрея, Вы заслужили право прочитать его последнее письмо». На самом деле, письмо было от адвокатессы из Москвы, настолько бедной, что она не могла позволить себе именную бумагу. Речь шла о моих конвенционных правах на старую запись Моцарта, только что выпущенную в России.
Я отбросил все иллюзии: если каллиграфия страсти существовала, то я был последним, кто способен ее прочесть.
ЭПИЛОГ В ФА-МИНОРЕ
Сегодня явился мой настройщик. Он, как доктор, приходит к моему Стейнвею каждый день, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и обнадежить меня. «Фа» третьей октавы звучит как-то не так. Ведь «фа» — нота, задающая тон моей Балладе. Мы посмотрели, в чем дело, он еще раз проверил валик и сказал, что Стейнвей этого типа может иметь подобный дефект, но он очень быстро сам собой исчезает.
«А потом не вернется?» — спросил я с понятным беспокойством. «Кто его знает, — ответил он. — Иногда возвращается. Попробуйте, маэстро, как будто сейчас нет призвука».
Он уступил мне место за клавиатурой, и я взял это «фа» один, два, три раза. Потом нажал на педаль и прослушал, как эхо расходится по гостиной, как аромат. Я не слышал призвука, тон казался безупречным. Настройщик улыбнулся: «Это не моя заслуга, маэстро, у этих фортепиано есть внутри что-то такое, что делает их мудрыми. Когда приходит время, они перестают капризничать и ведут себя молодцами».
Я попробовал еще раз и засомневался: мне вновь почудился фетровый шорох, как чудятся мнимому больному симптомы, которых у него нет, и он без конца меряет температуру, пока ему не привидится подъем ртутного столбика. Мой настройщик покачал головой с доверительностью, скрепленной годами взаимопонимания. Я знаю: когда он начинает спокойно, ловко и точно складывать инструменты, это означает, что визит окончен, сегодня я и так достаточно нагрешил. Потом он поглядел на меня вопросительно: «Маэстро, можно сказать вам два слова?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: