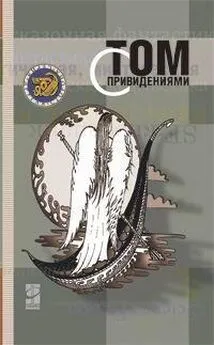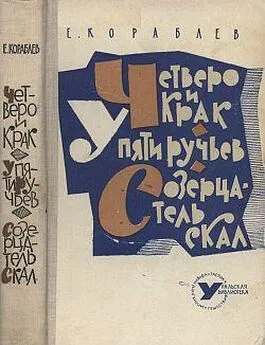Игорь Адамацкий - Созерцатель
- Название:Созерцатель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДЕАН
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93630-752-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Адамацкий - Созерцатель краткое содержание
ББК 84-74
А28
изданию книги помогли друзья автора
Арт-Центр «Пушкинская, 10»
СЕРГЕЙ КОВАЛЬСКИЙ
НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ
ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ
ИГОРЬ ОРЛОВ
ЮЛИЙ РЫБАКОВ
Адамацкий И. А.
Созерцатель. Повести и приТчуды. — СПб.: Издательство ДЕАН, 2009. — 816 с.
ISBN 978-5-93630-752-2
Copyright © И. А. Адамацкий
Copyright © 2009 by Luniver Press
Copyright © 2009, Издательство ДЕАН
По просьбе автора издательство максимально сохранило стиль текста, пунктуацию и подачу материала
Созерцатель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это слишком просто. Buscar tres pies al gato [77] искать три ноги у кошки (т.е. заниматься пустячным делом, исп. )
, — сказал я, и арагонец, сидевший рядом с Кастальсом, улыбнулся.
— Это задача для пана Крышевского, — заметил Эрвин, он был «медведем», и сейчас разыгрывался его сюжет об искусственно зачатом младенце, который, став взрослым, безуспешно пытается разыскать своих предполагаемых родителей. — Пан Крышевский сейчас бы вывел координаты и математически доказал, что искомой точки не существует, что ни правда не проецируется на искусство, ни искусство не функционирует от правды. Чей ход?
— Пожалуй, я попробую, — сказал Кастальс. — Начну с трех валетов. Без козыря. Сердце литературы — сюжет. Двигатель сюжета — любовь или голод во всех их возможных модификациях. И любовь, и голод прямо связаны с продолжением жизни, невозможным без женской основы. И то, и другое либо направлены на женщину, либо исходят от нее. Поэтому литература — женственна. Утоление любви и голода — это истина для продолжения жизни, ибо без жизни истины не существует. Утолением любви и голода — прошу всех пройти по бубнам, так, теперь еще раз; хорошо, Эрвину семь очков в минусе; прекрасно, медведя уже подняли, кто застрелит? — утолением завершается сюжет, останавливается двигатель, умирает в законченных формах искусство, значит, оно может существовать только, когда стремится к истине, но не достигает ее. Искусство — одно из условий существования жизни, катализатор процесса. Старик, ты опять придерживаешь тузов?
Я придерживал тузов, потому что «под рукой» у меня сидел Гроссер, и мне хотелось, чтобы он «убил медведя» и взял эрвиновский сюжет об искусственном мальчике. Кастальс безошибочно чувствовал карту партнеров и понял, что я не хочу выигрывать. Гроссер пропустил один ход и в следующие два выиграл.
— Жаль, — произнес Эрвин. — Гроссер обслюнявит сюжет, засахарит его так, что в рот будет противно взять.
— Ничего, — рассмеялся Гроссер, блеснув белыми зубами и картинно откинув голову с седой, рыжего отлива шевелюрой. — Я дам две-три параллельные линии развития, это мой отвлекающий маневр, затем несколько выигрышных побочных образов по стандартам мещанской красоты, разбавлю текст афоризмами, которые я всегда готовлю впрок и — ничего — съедят и добавки попросят.
— Интересно, Гросс, — спросил Фриц, по обыкновению мрачно улыбаясь, — как ты достигаешь такой завидной популярности?
— Я ее высчитываю, — снова блеснул зубами Гроссер, все еще продолжая держать голову, как на своем портрете в национальной галерее. — Я планирую популярность.
— Каким образом?
— Весьма простым. Я заранее работаю на определенного читателя, которого я обычно щажу: не подбрасываю ему головоломных проблем, приятно льщу его чувству собственного достоинства, в меру возбуждаю его половую сферу, иногда позволяю ему думать, будто он, читатель, умнее меня, автора. Поэтому мой читатель знает меня, как своего дальнего родственника и платит мне благодарностью и деньгами. Допустим, я делаю ставку на читателя, который не сложил семейной жизни или разладил ее, или собирается по каким-либо причинам сложить или разладить. Допустим, в странах англо-франкоязычных, где меня могут читать — заметьте, друзья, всегда важнее заставить говорить о себе в другой стране, тем самым вы ставите национальные издательства в положение моральной вины и даете им возможность перебелить свою черную неблагодарность в хорошие тиражи — в странах, где меня могут читать, таких читателей окажется десять-двенадцать миллионов. Я ввожу коэффициент поправки, получаю около двух или трех потенциальных читателей. Вывожу усредненную психологию такового читателя, расписываю для себя, чего же он ищет в жизни и в искусстве и затем выстраиваю сюжет в точном соответствии с запросами. Заключительный этап работы — мистифицированное интервью, где я — интервьюер, разумеется, под другой фамилией, поднимаю на смех себя-литератора. И после всего этого популярность сама гоняется за мной, навязывается и липнет.
— Понятно, почему ты стал мрачный и старый. Закис на расчетах.
— Ничуть не закис, — широко улыбается Гроссер. — Зато я не испытываю разочарования оттого, что меня не понимают. Паблисити вышедшей книге создают рецензенты и обозреватели, а они-то как раз и относятся к числу моих читателей, ради которых я работаю.
— После твоих романов увеличивается число разводов.
— Но появляется вновь желание любить.
Все заспорили о том, каким следует быть современному читателю, а каким — рассказчику, и в этот момент приложения разнонаправленных психических сил, когда разговор, казалось, вот-вот забуксует на месте, как грузовик в осенней жиже, и из-под колес полетят комья грязи, — вошла Надин-примирительница, в чем-то длинном, голубом, причудливо-утонченном. Арагонец, самый молодой из всех — настоящий идальго, потому что в присутствии женщины томность и пылкая грусть обозначились на его прямодушном, четкого рисунка лице, — тотчас встал, предупредительно подвинул кресло, усадил Надин, сгреб со стола карты, поставил чистый бокал с тонким золотистым орнаментом по краю, бутылочку марсалы, налил вина и подвинул вазочку с морскими орешками. Очаровательный мальчик. Когда-то таким же любезным был и я, и в какого брюзгу превратился.
Надин отпила из бокала, — ноздри точеного носа вздрогнули, ресницы качнулись, зрачки потемнели. Она была в приподнятом настроении, агрессивно-романтическом, и готовилась сразу, не сходя с места, обольщать нас всех.
— Вся элита в сборе, — сказала Надин, — про что разговор? Небось, про литературу?
— Про нее, треклятую, — ответил за всех Кастальс, тонко улыбаясь и глядя на красивую прическу Надин и ее лицо, такое тщательно новое, будто только что из мастерских, и где-то за ушком — клеймо контролера по качеству; Кастальс — тоже идальго, только постаревший, что намного опаснее, потому что рыцарство замешано у него на иронии и приперчено тайным цинизмом. — Про литературу. Потому что ни в чем другом мы ни бельмеса не смыслим.
— Послушайте, Пабло, — мягко сказала Надин, как всегда, когда разговаривала с ним, — издалека и с опаской, — и улыбнулась только ему предназначенной улыбкой, — ваш русский язык, Пабло, режет слух. Давайте перейдем на английский, если остальные не возражают.
— С удовольствием, мадам, — сказал Гроссер, — тем более что среди нас нет ни одного коренного англичанина и, значит, ничьих ушей мы не оскорбим.
Надин смотрела на меня и разминала в пальцах тонкую скорлупу морского орешка.
— Начнем с вас, Фриц, и дальше — по часовой стрелке.
— Для вас, мадам, — заулыбался Фриц (черт возьми, да здесь все — идальго, и даже Фриц — как испытанный боевой конь, если не горячий, но еще достаточно теплый, готов прянуть ушами и мчаться в атаку) — Для вас я готов пробудить в себе беса болтливости, чтобы он одолел во мне ангела скромности. Однако не обольщайтесь на мой счет. Nothing comes out of the jack but what was in it [78] ничего из портфеля нельзя извлечь кроме того, что там есть (англ. поговорка)
. Между нами, немцами, вами, русскими литераторами, много общего. Во-первых, мы не можем жить без авторитета. Поскольку наша обыденная мысль, вялая и ленивая, неспособна к самовозгоранию, то и любая нелепость, изреченная великим человеком и тысячекратно повторенная почитателями, обретает права истины. А мы привыкаем к этой истине, перестаем ее замечать, и продолжаем жить так, будто ничего существенного не произошло. Во-вторых, мы тяжеловесны, медлительны, неизящны. Мы чаще и с удовольствием думаем о желудках, чем о душах. В-третьих, мы моралисты во всем, что касается обыденного жизнепорядка. Если же какой-нибудь немец или русский выпадает из этого правила, то при ближайшем рассмотрении он оказывается, замешан на иноплеменной крови. Из всего этого — драматизм мировосприятия, излишняя, часто смехотворная серьезность и отсутствие чувства юмора. Смеющийся — на два шага впереди плачущего. У ваших Достоевских и Толстых, также как у наших Гете и Шиллеров, всего было в избытке, кроме одного: желания и способности смеяться. Вот почему своих сатириков вы любите, вернее, чтите, когда они уже в гробу и ничего нового уже не скажут. Не так ли, Гросс?
Интервал:
Закладка: