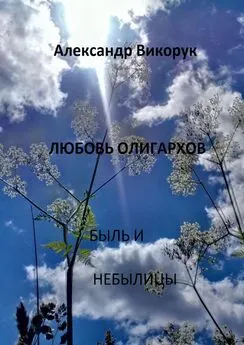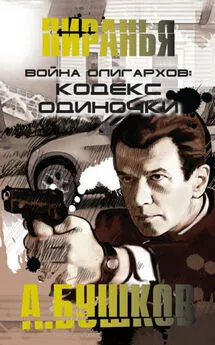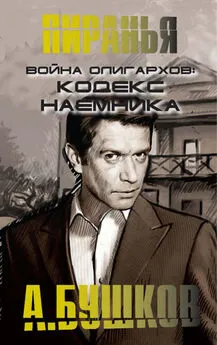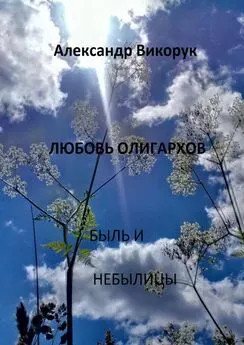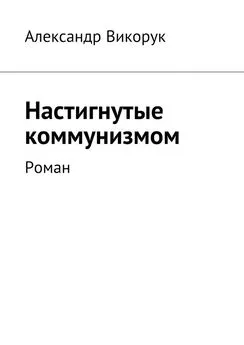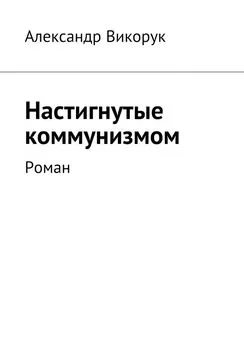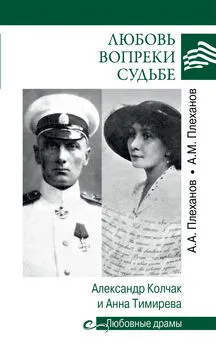Александр Викорук - Любовь олигархов
- Название:Любовь олигархов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:978-5-4483-1979-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Викорук - Любовь олигархов краткое содержание
Любовь олигархов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кто-то вспомнит и запишет, что видел ангела, пролетевшего в ветвях крон деревьев над монументальной головой Герцена. А кто-то с гневом настучит в вечность, что опять засор в туалете у гардероба — и дурно пахнет.
Воспоминания — дело личное, интимное и не скромное.
Поступил в Литинститут я благодаря рассказу, который начинается с того, что герой погибал в ДТП. Его душа проникла через разбитое лобовое стекло и повисла в по-осеннему голых и мокрых ветвях деревьев.
Уже на последнем курсе учебы мне рассказал Николай Стефанович Буханцов, который вел семинар по текущей советской литературе, что это он читал мои конкурсные рассказы и рекомендовал их прочитать Георгию Сергеевичу Березко, набиравшего семинар в 1975 году.
— Он любитель прозы с чудинкой, — покрутил в воздухе пальцами Буханцов.
На первом семинарском занятии уже сильно немолодой Георгий Семенович Березко довольно рассеянно расспрашивал вчерашних абитуриентов о прозе на творческом конкурсе. Говорил он вяло и глаза, замутненные скрываемым недомоганием, смотрели без особого интереса.
Когда я сказал, что, вот, в рассказе герой погибает и его душа бродит по свету, прощаясь, глаза Березко тут же осветились, он весь воспрянул от прилива энергии:
— Помню, помню, — повторил он оживленно.
В этот момент, может, тот самый ангел мельком залетел в приоткрытое окно и махнул над нами своим легким крылом. Наверное, именно такое чудо соединяет обитателей Литинститута в странное сообщество людей, которые могут без конца говорить о прозе, стихах, о том невыразимом ожидании будущего, в котором должны состояться гениальные планы.
Семинар Березко был дневным, а мое начальство на службе — был я заочником — не согласилось отпускать меня с работы по вторникам. И перекочевал я на заочный семинар Александра Евсеевича Рекемчука.
На первом семинаре Александр Евсеевич представился стареющим писателем, в то время ему не было еще и пятидесяти, а нас причислил к молодым писателям, которым предстоит проложить дорогу в литературу.
— Ничего гениального мы еще не написали, — утвердительно постановил он.
Мало похожий на ангела Александр Евсеевич в 1977 году сам отнес мой рассказ в «Московский комсомолец», и с этой публикации начался мой литературный стаж, тогда в советские времена имевший особое значение, а сейчас — вещь абсолютно бесполезная и никчемная.
Рассказ был гладкий, не выдающийся. Речь шла о ночной встрече бесхозного пса, который норовил кому-нибудь пристроить свои преданность и собачью любовь, и человека, обычного, порядочного, осознающего, что не хватит его душевной доброты, чтобы принять любовь этого лохматого бродяги.
Об этом давнем рассказе вспомнил я, когда мой приятель прослезился, рассказывая о трех дворняжках, которых он приютил:
— Вот, бесконечно благодарные твари!
А у самого дети взрослые, внуков полно. Благодарности только маловато будет.
Есть такие вечные темы в литературе. Одна из советских тем — суть трагедии Григория Мелехова. Официальная критика основательно потрудилась над ней. Но партийное косоглазие все-таки помешало разглядеть главное. Именно во времена учебы довелось мне приобщиться к этой загадке. И пришел я к выводу, что трагедия Мелехова в том, что родился он, чтобы пахать землю, любить женщину, растить детей. А вместо этого был вынужден убивать то красных, то белых. Собственно, в этом была трагедия всего народа, которого большевики втянули в братоубийственную бойню, и Мелехов оказался одной из капель крови.
Эта идея мне сильно пригодилась во время госэкзамена по русской литературе. Знания студентов, особенно заочников, всегда ущербны и зияют провалами. Поэтому заботами невидимого ангела под моей рукой оказался билет, в котором одним вопросом была как раз трагедия Мелехова, а вторым — поэзия Тютчева. При всем уважении к великому русскому поэту мои познания о его творчестве были весьма приблизительны.
Уж не знаю, на каких весах члены экзаменационной комиссии взвешивали мои познания, но «в осадке» вышло «хорошо».
Была в моей учебной истории и редакционная практика. В ту пору в пристройке к зданию Литинститута обитала редакция журнала «Знамя». Вот, и напросился я на практику в отдел прозы. Тогда заведующей отдела была известная критик Наталья Иванова, и под ее началом две дамы.
Не обошлось и тут без анекдотов. В одном из казенных шкафов с застекленными полками одиноко на чистой полке лежали листки, исписанные от руки. В момент затишья я полюбопытствовал и обнаружил, что это послание начинающего автора.
Основным моим занятием было чтение рукописей авторов и сочинение ответов, в основном, с отрицательным заключением. И где-то к концу моей практики одна из дам выловила из шкафа эти листки и вручила мне.
Это было описание эпизода встречи героя с женщиной без тех пресловутых «завязок» и «развязок», нечто отрывочное, как услышанный обрывок чужого разговора, да еще со старомодным прозвищем героини «Ундина».
Недолго думая, я сочинил ответ, указав автору, что такого рода прозаический стиль устарел.
Много позже моя память-копуша подсказала, что это отрывок из прозы Лермонтова о бедных контрабандистах из Тамани. Бывает, что графоманы «передирают» куски из классики и посылают в редакции в качестве незатейливой шутки. Милые дамы держали этот «подвох» для своих шуток над безобидными рецензентами.
Но мой промах не остался без возмездия. Та же дама вручила мне для прочтения рукопись перевода фантастической повести западного автора. По мере чтения я не мог отделаться от ощущения, что текст мне знаком. Наконец память проявила всю правду: то же самое я читал много лет назад в журнале «Аврора». Мне удалось найти и номер и установить настоящего автора перевода.
Дама благодарила и была счастлива, поскольку эту повесть они уже предлагали к печати, и вышел бы грандиозный редакционный скандал.
Шел я на практику в «Знамя» не без тайной надежды, что удастся напечатать хотя бы рассказик. Увы. Мало того, уже много позже, после безрезультатных попыток предложений в редакции своих рукописей, послал я в Кострому несколько рассказов Игорю Дедкову, тогда набиравшему популярности критику с хорошей репутацией совестливого человека. А как раз в это время он перебрался в Москву. И он ответил мне, что один рассказ понравился и он передал его в отдел прозы журнала «Знамя». Тоже, увы. Через какое-то время получил я конверт с рукописями и стандартным благожелательным отказом.
А через два или три года Игорь Дедков умер. Может, после вольных волжских просторов — слишком тесно было его душе в редакционных джунглях столицы. И стал он ангелом.
А за несколько месяцев до окончания учебы в Литинституте состоялось уникальное для любого студента событие. Мало похожий на ангела Александр Рекемчук передал мою повесть «Зона холода», мою дипломную работу, главному редактору журнала «Юности», выходившего тогда трехмиллионным тиражом. Борис Николаевич Полевой, это был последний год его земной жизни, не поленился и пригласил студента в свой редакционный кабинет. Сказал, что читал рукопись, отметил, что верно в повести говорится о сложной судьбе молодых ученых. Посетовал, что его племянник как раз в стадии защиты диссертации. Повесть была поставлена в первый номер 1981 года.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: