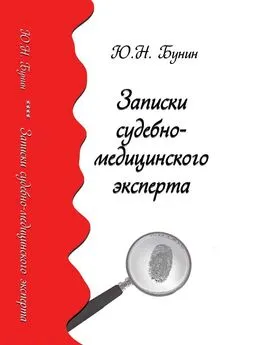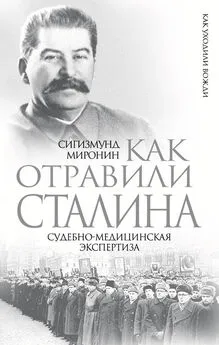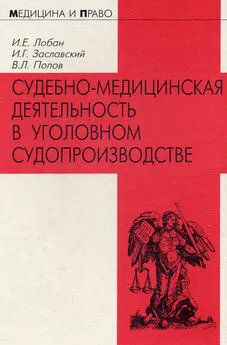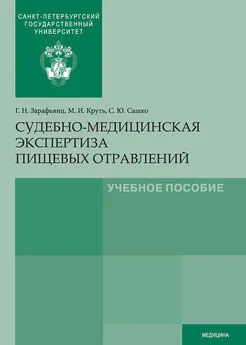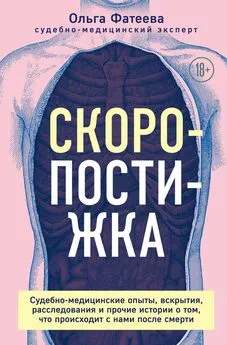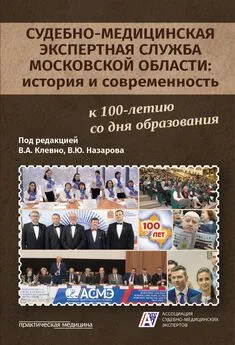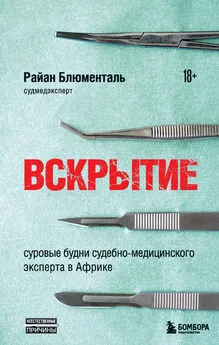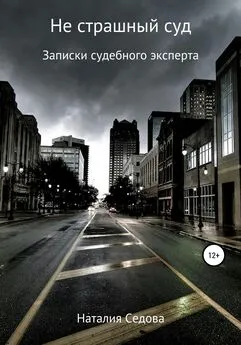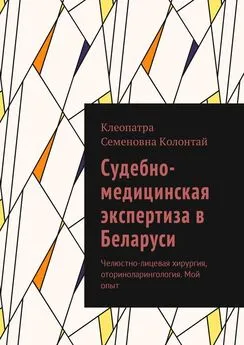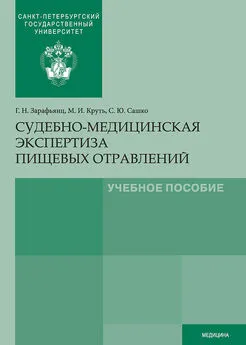Юрий Бунин - Записки судебно-медицинского эксперта
- Название:Записки судебно-медицинского эксперта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
- Год:2016
- Город:Томск
- ISBN:978-5-86889-737-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Бунин - Записки судебно-медицинского эксперта краткое содержание
Одним из преподавателей кафедры в советский период ее истории был Юрий Николаевич Бунин, успешно совмещавший педагогическую деятельность с практической работой в Томском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Помимо педагогического таланта, у Юрия Николаевича, старейшего из ныне практикующих экспертов Томской области, раскрылся и талант литератора, благодаря которому все желающие могут прочитать в данной книге занимательные истории из экспертной практики.
Записки судебно-медицинского эксперта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Суд, совещаясь на месте, удовлетворил ходатайство и назначил очередную дополнительную экспертизу с вопросами: не наступила ли смерть Г. от утопления? не возникли ли повреждения костей черепа при падении в колодец и ударе под действием веса тела головой о желоб на дне колодца и о камни, лежавшие в желобе?
С судом не спорят. Не помню уж, в какой раз мы перечитали материалы уголовного дела. Вопрос об утоплении до сих пор ни разу не возникал. В протоколе вскрытия ни малейших указаний на прижизненную аспирацию воды в дыхательные пути и в легкие (утопление) не было. На фотографиях, сделанных при осмотре трупа на месте обнаружения, видно, что все лицо обильно испачкано подсохшей кровью.
Буквально скрипя зубами, мы написали, что никаких данных за утопление в воде не усматривается и что в протоколе осмотра места происшествия (ОМП) под головой трупа никаких камней не описано. Мы указали также, что целость костей мозгового и лицевого черепа, несомненно, была нарушена до падения в колодец, и отметили, что, учитывая глубину колодца — около 4 метров, и массу тела Г. — около 100 кг, в результате падения могли образоваться дополнительные повреждения костей черепа. С моей точки зрения, это на квалификацию содеянного никак не влияло (впрочем, квалификация преступления не мое дело).
Перед этим мы со следователем и криминалистом областной прокуратуры исследовали место происшествия, т. е., приехав в Лагерный сад, спустились вниз по лестнице и, преодолев глубокий снег, добрались до колодца, измерили его глубину (3,8 метра от горловины), осмотрели и сфотографировали дно, которое было засыпано обломками камней и кирпичами, и желоб на дне. Ясно, что за прошедшее время картина изменилась. Данные осмотра мы использовали при экспертизе.
В очередном судебном заседании я огласил наши выводы. Адвокат нынче грамотный пошел — меня забросали вопросами о разных мелких подробностях падения и «утопления». Пользуясь своим процессуальным правом и размахивая, как дубиной, копией протокола ОМП, я попросил суд вызвать участников осмотра — следователя, криминалиста, оперативного работника и понятых.
На следующий день их допросили в суде. Результат меня, честно говоря, ошеломил. Выяснилось, что для следователя прокуратуры (выпускницы юрфака ТГУ) это был первый практический выезд на место происшествия. Все время, пока производился «осмотр», она просидела в машине, ни колодца, ни трупа толком не видела. Криминалист райотдела в колодец не спускался, крупноплановых снимков трупа в нем не делал. В колодец на веревке опустили оперработника, он обвязал погибшего веревкой и труп подняли на поверхность. Оперативник (молодец!) вылез сам. Только после этого криминалист сфотографировал тело, причем с грубейшими нарушениями правил судебной фотографии: не было масштабной линейки, оптическая ось фотоаппарата была направлена к объектам под совершенно произвольными углами (а не перпендикулярно, как полагается), как будто эксперт фотографировал не место происшествия, а пикник…
Отвечая на вопросы суда и сторон, я от руки написал заключение эксперта в судебном заседании, в котором суммировал все ранее известные и вновь полученные данные. Суд удалился на совещание.
Потом я узнал, что двое из подсудимых были освобождены в зале суда, а один получил срок за «надругательство над трупом» (?!), но большую часть уже отсидел в СИЗО. Главный фигурант, А. -старший, до сих пор где-то бегает (или не бегает?). Когда его поймают, дело будет возобновлено…
Вы можете спросить: зачем я описывал всю эту бодягу? Отвечаю: с единственной целью — показать, как безграмотная работа специалистов на месте происшествия, в морге и на других этапах предварительного следствия способна загубить дело, которое при правильных и своевременных действиях могло быть быстро и эффективно завершено.

1-й курс 1964 год, 2-й курс 4-й курс
Пожалуй, для начала хватит. Думаю, если мой труд заинтересует читателей, я с удовольствием его продолжу. Тем более что остался не только большой запас случаев эксгумаций, но и богатейший набор примеров из собственной практики, с эксгумацией не связанных.
Не могу не сказать и вот о чем. Буквально когда я заканчивал эту часть своих заметок, в конце апреля 2001 года в г. Стрежевом мне пришлось сделать еще одну эксгумацию — через 33 года после самой первой эксгумации в Стрежевом! Рондо получается… Случай сложный и очень интересный, но пока идет следствие, я не могу о нем написать.
Вконце первой части я упомянул об эксгумации, которую сделал в г. Стрежевом в 2001 году — через 33 года после самой первой своей эксгумации. Это было своеобразное рондо.
С тех пор прошло 11 лет. Все эти годы указанный случай не давал мне покоя.
Не давал потому, что сама фабула весьма необычна и загадочна.
События происходили в ноябре 2000 года. В г. Стрежевом было построено современное многоэтажное здание «Восточной нефтяной компании». Его архитектурные достоинства не столь важны. На первом этаже располагалась диспетчерская, куда в режиме on Кпе стекались сведения о добыче нефти, состоянии скважин, трубопроводов и т. п. В диспетчерской круглосуточно дежурили по два человека — диспетчер и техник. При входе в здание имелся довольно обширный холл. С одной стороны его находились входные двери, ведущие на этажи компании, с другой — коридор, ведущий в диспетчерскую. Длина коридора — 40 метров, дверь в диспетчерскую во время работы всегда закрыта. В холле метрах в 5 _6 от входной двери стоял стол охранника — сотрудника вневедомственной охраны. Он во время дежурства сидел в кресле на колесиках. Стол освещался настольной лампой. Входная дверь закрывалась на английский замок с защелкой, т. е. открыть его можно было либо снаружи ключом, либо изнутри, повернув защелку. Еще одна деталь — каждые два часа охранник должен был отзваниваться на центральный пульт и докладывать, что на охраняемом объекте все в порядке. Если контрольный звонок не поступал, на объект направлялись сотрудники для проверки ситуации. Телефонной связи между центральным пультом и диспетчерской не было.
В тот день дежурил охранник К. — молодой здоровый мужчина 24 лет, отслуживший в армии, высокий, атлетического сложения. Ночь прошла вроде бы спокойно. Около 6 часов 20 минут утра в окно диспетчерской кто-то постучал. Диспетчер выглянул и увидел под окном двоих сотрудников вневедомственной охраны, которые подавали ему какие-то знаки (через двойные рамы ничего толком не было слышно). Диспетчер понял, что его просят открыть входную дверь, удивился (а где охранник?), но прошел по коридору те самые 40 метров, пересек полутемный холл и открыл входную дверь. Вошедшие ВОХРовцы вместе с диспетчером подошли к столу охранника и увидели, что он (охранник, конечно) сидит в кресле, откинувшись на спинку, и как будто спит. На оклики он не отзывался, и, подойдя поближе, сотрудники убедились, что охранник мертв…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: