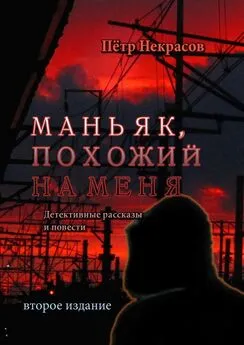Пётр Курков - Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени
- Название:Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00159-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Курков - Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени краткое содержание
Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пытаем мы их, значит, как хорошо они живут и чего им еще не хватает, куда досуг девать. Какой-то активный один за всех отвечает и докладывает, сколько у них разных секций, кружков, пар лыж. В зале молчание. Идет мероприятие. Отсидка. Один за другим встали газетчики. По делу, все зная, все понимая, влили дозу призывов. Активный нас поблагодарил, и все устремились к выходу. У нас галочка, у них птичка. А результат? Что дают эти братания на нейтральной, окультуренной полосе? Чьим присутствием окультуренной?
Наверное, только равнодушие может окрасить общение в такие вежливые тона.
Жить нужно вместе.
Мой уход в «отстающее звено» был встречен как нонсенс. А между тем я поступала как председатель Иванов и бригадир Петров. Но почему-то никакого ликования. Из-за редакторского стола — в грязь, в канализацию… Бр-р! Как ни благосклонен был к моему увольнению Иван Максимилианович, его заметно коробило.
Ну, не вышло газетчицы, маловато способностей. Но ведь есть немало смежных отраслей, где можно реализоваться. Как-то нехорошо, если не сказать подозрительно, что из газеты, из руководимой им газеты, люди уходят в сантехники.
— Это ведь парадокс, — говорил он, глядя мутными, непротертыми стеклами. — У тебя высшее образование. Зачем же ты училась, для чего? Государство затратило на тебя…
— Простите, перебью… Действительно, зачем я училась и для чего? Может, парадокс не в уходе моем, а в пребывании здесь?
— Ты всегда противопоставляла себя коллективу. Ты всегда игнорировала мнение товарищей, в том числе старших, знающих дело и отдавших ему всю жизнь.
При этих словах главный редактор скорбно поднимал очки вверх, к противоположной стене — на маленький портрет в желтом паспарту. Там было фото журналиста из нашей газеты, двадцать лет назад погибшего при аварии в командировке. Во мне, родившейся почти так же давно, этот преданный забвению снимок — когда на него внезапно указывал главный редактор — пробуждал чувство стеснения и неловкости, ту обыкновенную человеческую вину перед умершими, которую, вероятно, должен испытывать каждый. Было нехорошо. Достойный умер, а ты живешь. Непростительно молодой. И по какому праву — доказать не можешь. Было досадно. Потому что гибель журналиста и мое противопоставление коллективу не имели ровно никакой связи. Но в выпаде Ивана Максимилиановича связь будто бы была — прямая, как пика, — и будто пику эту держал и направлял на меня не кто иной, как сам ненадолго воскресший журналист, а Иван Максимилианович только служил переводчиком с загробного.
Сомневаться, опровергать, защищаться — неизбежно означало бы только одно: глумление над покойным, кощунственное отношение к тому, что свято.
Иван Максимилианович очень любил захватить врасплох и пригвоздить кого-нибудь славным именем. А что можно возразить, например, против того, что Надежда Константиновна Крупская никогда не надела бы такого короткого платья, а?
Или — что Чичерин ни за что не плюнул бы мимо урны? Все немеет перед пошлостью.
Если учесть, что именами главный редактор сыпал как шутейная пушка — пареной репой, то нетрудно догадаться, какое количество ответного молчания было записано им в свой актив как победа, как признание его правоты.
Что я могла? Над головой главного редактора висел другой портрет — Владимира Ильича, а за спиной, в шкафу, темнело Полное собрание сочинений. И все это было нацелено как бы против меня. Не хотелось услышать еще одно имя, сказанное всуе.
— Не знаю, — ответила я. — Но призывать больше уже не могу. Надоело.
Слова, слова… Подобно мухам, они способны облепить и засидеть все. Чтить прошлое? Да. Но без дел и примеров в настоящем былая героика рассыпается прахом. Начинаются цитатные чревовещания. Вызывание духов великих. Спиритические сеансы для болванов. Мне хотелось дела. Я не знала, где оно. Я знала — здесь его нет.
Так и ушла я из своей газеты «Призыв», сопровождаемая тайным и явным «Бр-р!». Из светлого здания, от стопок белоснежной бумаги, от чистого и возвышающего занятия — влиять на умы людей — я уходила в грязь, в безмолвие и безгласие. Я читала это в глазах бывших сотрудников. Кое-кто из них просто не понимал меня, кто-то втайне сожалел, что у меня не хватило терпения дождаться перемен.
Е. Подобед притворилась, что массирует зону аккупунктуры возле уха, когда я внезапно оглянулась, уходя. «Ненормальная!» — показывала она остальным. Увы, она редко пользовалась этим древним жестом, обозначающим дурака. Медики утверждают, что ухо эмбриогенетически связано со многими органами, и поэтому, раздражая это место, человек лечит самого себя.
Иван Максимилианович устало помотал головой, будто какая-то мысль, как муха, кружила возле него, но, естественно, не могла залететь.
А должно ли было мое решение коробить и шокировать главного редактора?
Что же он… неужто всерьез думал, что жизнь так и будет вращать колесами по наезженному пути и никто не заметит, что начался юз? Что будут приходить в газету молодые, а Иван Максимилианович, застращав их заслугами и подвигами его поколения, подомнет именами, убедит, что молодость — порок, иждивенчество, сиденье на шее отцов-матерей, и оттого молодые не заслуживают ни места в жизни, ни уважения, удел их — послушание, полное подчинение авторитетам и ученье уму-разуму. Неужели он впрямь предполагал, что никто никогда не заартачится, не пойдет напролом, не крикнет «слазь, идет наше время», не наделает шуму и шишек себе на лоб? Или, как это сделала я, не уйдет, скандально хлопнув дверью?
Почему он, редактор газеты, был так убежден в безгласии и повиновении?
Наверное, потому, что подобный образ мышления был общеутвержденным.
Старость — это награда. Но Иван Максимилианович не видел в этом изречении того смысла, который заложил автор. Старость — как отдых от трудов, патриаршее удовлетворение от того, что род продолжается, крепнет и развивается, что к кормилу встали потомки, молодые, сильные, им — дедом и прадедом — порожденные и воспитанные, за что долгая ему честь и хвала. Нет, главный редактор имел о наградах прямое понятие, и оно шло враскол с другим — старость. Чтобы иметь почет, награды и уважение, Ивану Максимилиановичу нужно было во что бы то ни стало не стареть. А поскольку старение неотвратимо, главный редактор просто не признавал его за собой, тянул и продлевал время своего участия в делах, которые были ему не по плечу, и не допускал к ним молодежь, убивая этим сразу двух зайцев.
Доказывал свою незаменимость и полную инфантильность молодых.
Отчего я ограничилась словом «надоело»?
Из газеты я увольнялась. Меня считали ненормальной. Самое, казалось бы, время выложить все — в настроении самоубийцы, в том исключительном положении, когда можно все сказать и даже написать что угодно — прощальное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
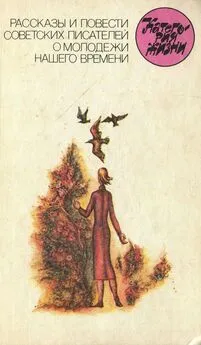

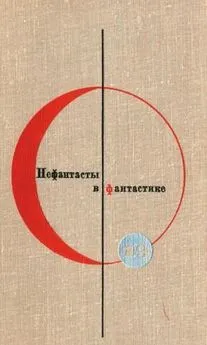
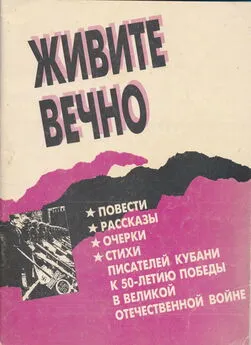
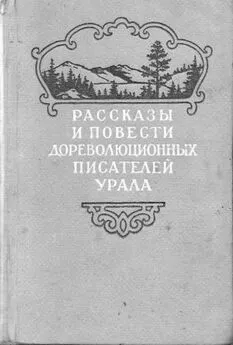
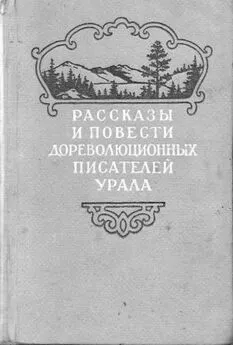
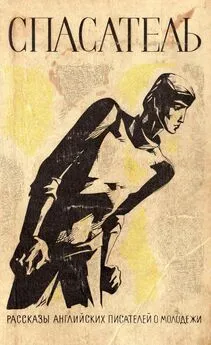
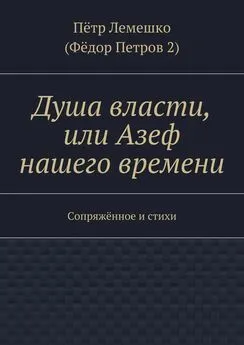
![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/1099254/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk.webp)