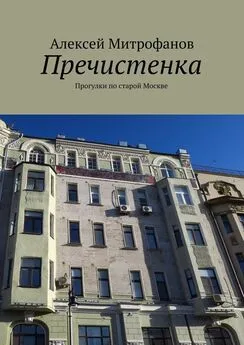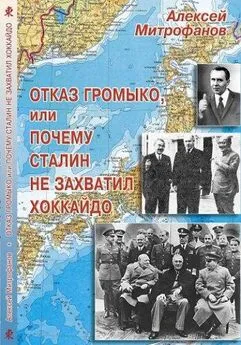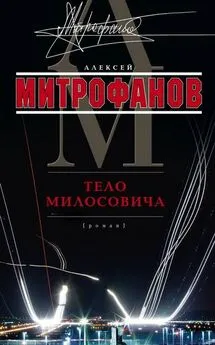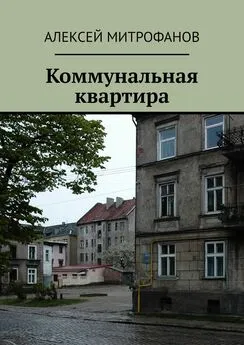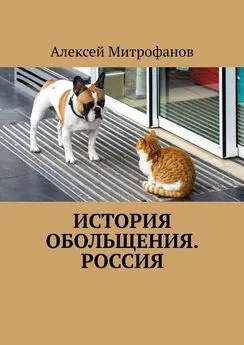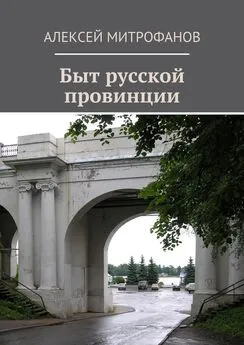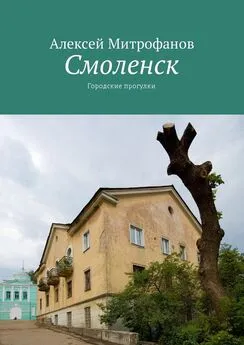Алексей Митрофанов - Пречистенка
- Название:Пречистенка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ключ-С
- Год:2008
- ISBN:978-5-93136-054-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Пречистенка краткое содержание
Пречистенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Ну, а теперь я ухожу, прости.
И правда, я ушла.
Я смутно помню, как искала в сумерках дом на Пречистенке, взлетела во второй этаж, и очутилась в скромной комнатке курсячей с белою кроватью, книжками и фотографией Толстого босиком. Помню испуганные Душины глаза, беспомощный жест рук. Нелепость моих слов, нелепость всей моей затеи и восторженное сумасбродство. Помню, что она вдруг ослабела, поддалась, в глазах ее мелькнуло то же самое безумие, что у меня. Если б теперь, спокойным взглядом я могла взглянуть на этот эпизод, — улыбка бы, наверно… Мы плакали и наговорили безнадежный вздор, мы убеждали каждая другую, что ей именно и надо быть с Маркелом, что ее по-настоящему он любит. Как сладостно остр отказ от того, что стало дорого как раз теперь… Так же ли и Душа чувствовала? Может быть, и может быть — сильней, чем я. Но за меня был натиск, инициатива, опытность».
Ничего особенного, типичная история Серебряного века, однако ж еще более разнообразившая биографию пречистенского дома.
Школа господина Поливанова
Дом Охотниковых (Пречистенка, 32) построен в конце XVIII века.
Среди строгих краеведов это здание известно под названием дома Охотникова — по фамилии его ранних владельцев. Однако же исследователи менее строгие гораздо чаще называют его Поливановской гимназией, поскольку в 1868 году здесь разместилась частная гимназия Льва Поливанова — одна из самых необычных в Москве.
По всем законам жанра таких гимназий не должно существовать. Но эта гимназия и вправду действовала в нашем городе, в основном благодаря незаурядной личности директора.
Лев Иванович родился в 1838 году, окончил историко-филологический факультет Московского университета, вел уроки российской словесности в одном из училищ, позднее — в «казенных» гимназиях. Именно тогда и приобрел он отвращение к «казенщине», которое иной раз доходило до болезненности, чуть ли не до патологии.
Если, например, увидит у своего ученика тетрадь в «казенном переплете», схватит ее и разорвет с воплем:
— Терпеть не могу этой каа-зее-ооо-онщины!
Словом, в 1868 году Лев Поливанов смог открыть свою гимназию. В которой сразу же завел свои, неповторимые обычаи. И москвичи поняли — возникло учреждение отнюдь не заурядное. Один из современников писал вскоре после открытия: «Заведение это учреждено… при содействии многих лиц педагогического сословия, которые соединили здесь свои силы не случайно, но, проникнутые живым педагогическим интересом и общим убеждением, что серьезных результатов школа в состоянии достигнуть только тогда, когда преподаватели ее, образуя правильную коллегию, ведут дело обучения и воспитания под условием внимательных совокупных наблюдений за его ходом и постоянного обмена мыслей, и что при этом только условии учебное заведение может получить характер учреждения воспитательного, способного к постоянному совершенствованию, и сохранить этот характер, не вырождаясь в предприятие коммерческое».
Деятельность Поливанова была разносторонней: переводил, писал и редактировал; составлял хрестоматии; являлся организатором и заправилой «Пушкинских торжеств» в честь открытия памятника. Но своим главным делом все-таки считал преподавание.
«Льва», как его звали гимназисты, превосходно описал Борис Бугаев (Андрей Белый), сам из «поливановцев»: «…Дверь отворилась стремительно, с катастрофическою быстротой; и в пороге ее встала вытянутая, великолепнейшая фигура Льва Ильича Поливанова, чтобы в следующий момент мощным львиным прыжком опрокинуться на меня. Высокий, сутулый, худой, с серой, пышно зачесанной гривой на плечи упавших волос, с головою закинутой (носом приятно скругленным — под потолочный под угол), с черно-серой подстриженною бородою, щетиною всклокоченной прямо со щек, прехудых, двумя темными ямами всосанных под мертвенно-серыми скулами, — очень высокий, сутулый, худой, с предлиннейшими, за спину закинутыми руками, в кургузой куртеночке синего цвета, подчеркивающей предлинные и прехудейшие ноги, он ринется вот на меня ураганами криков (от баса до визга тончайшего), кинется роем роскошеств, развертывающих перспективищи.
Как описать мне его?»
Выходит, несмотря на всю экспрессию, всю яркость, писатель признается — не то, дескать, слабовато.
Да, внешность, мягко говоря, экстравагантная и, в общем-то, предполагающая всевозможные неординарные поступки, которые, конечно же, имели место быть.
Правда, один из поливановцев, В. Иков, дулся на Андрея Белого и обвинял его в предвзятости: «Это в значительной мере шарж, почти гениальный, но все же шарж. Впрочем, иной цели и не ставил себе автор в своих воспоминаниях, кроме как дать такое памфлетно-гротескное отражение мира, в котором он жил и с которым был до конца неразрывно связан, несмотря на все стремление вырваться из его объятий.
Нельзя было бы отрицать права автора видеть и показывать жизнь и действительность в кривом зеркале, если бы А. Белый не делал одновременно попытки противопоставить — задним числом — себя своему былому окружению и если бы к его восприятию прошлого не примешивалось нот личной обиды и раздражения некогда обиженного и непонятого средой правдоискателя…
У меня нет ни малейшей охоты состязаться с А. Белым, как нет и его дара, воспринятого им от Гоголя, видеть всюду лишь свиные рыла…
Моя задача много скромнее. Я действительно поднимаю «признательную чашу» в честь некоторых наставников своих и именно так, как требует Пушкин, «не помня зла»».
И далее Иков дает свою характеристику любимому директору и педагогу: «Автор широко распространенных в то время превосходных учебников русского языка (грамматики и хрестоматий), переводчик (Расина, Мольера), исследователь-литературовед (книга о Жуковском, работы о Пушкине) — Лев Иванович был прежде всего и больше всего несравненным мастером преподавания с исключительным даром живого слова, прирожденным педагогом, поэтом, магом и волшебником труднейшего из искусств — искусства передачи ученикам интереса и любви к преподаваемой им дисциплине, будь то русский язык, русская литература или латынь (которую мы проходили у него в младших классах). В его руках это был уже не «предмет», а наука, и к ней он умело, доходчиво и интересно приобщал нас… Малыши и подростки боялись Л.И. чуть ли не до озноба и истерики, и вместе с тем питали к нему неизъяснимую симпатию. Входя в возраст, мы начинали ценить и понимать этого человека за его душевное благородство, мягкость и чуткость, за огромный ум, за талант истинного наставника — учителя — друга…
Вспоминаю с глубоким волнением Льва Николаевича. Он любил Малый театр, где в те годы подвизались такие единственные неповторимые артисты, как Ермолова, Федотова, Лешковская, Ленский, Садовские, Горев, Южин и другие «старшие и младшие» русской сцены. Он любил этот театр, как все москвичи, трепетной, ревнивой любовью и заряжал ею старшеклассников. Но Л. И. не был пассивным зрителем, хотя бы и высококультурным и исключительно чутким ценителем. В нем самом, несомненно, жил актер и режиссер, изобретательный постановщик и организатор театрального действа… Подобно нашему Суворову, Лев Иванович не любил «незнаек», «немогузнаек», тупых учеников, которые, ни о чем не думая, ничем всерьез не интересуясь, ни во что не вникая, «готовили» добросовестные уроки и отвечали ему слово в слово без запинки по учебнику. Он холодно слушал ответ, ставил отметку и терял всякий интерес к такому пай-мальчику.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: