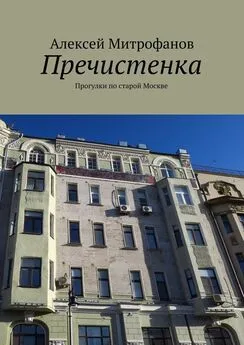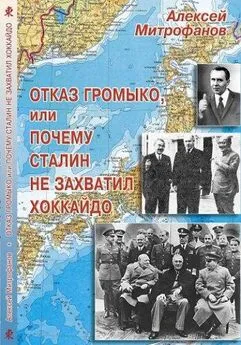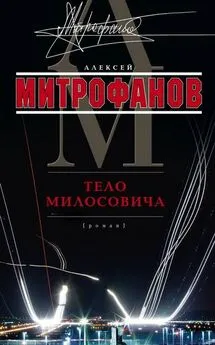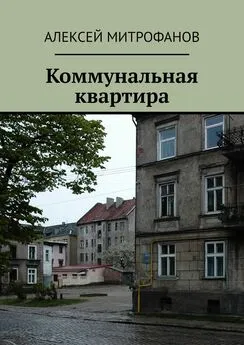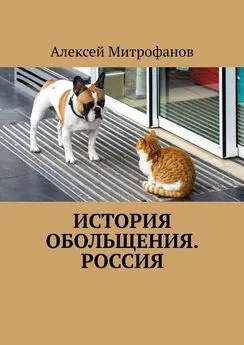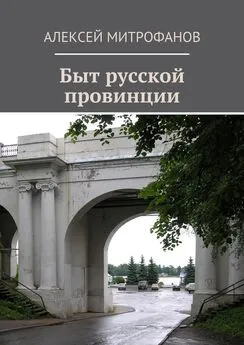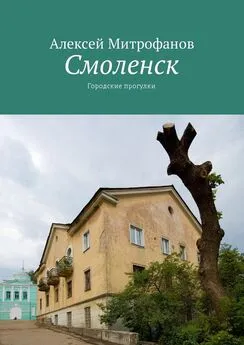Алексей Митрофанов - Пречистенка
- Название:Пречистенка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ключ-С
- Год:2008
- ISBN:978-5-93136-054-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Пречистенка краткое содержание
Пречистенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Словом, происхождение церкви Ильи-пророка неясно. И, пожалуй, более всех прочих краеведов был мудр священник С. Борздыка, написавший в середине нашего столетия следующие слова: «Название храма напоминает о замечательном благочестивом обычае наших предков, широко распространенном в древней Руси. Обыденные храмы (большей частью деревянные, реже каменные) строились „всем миром“, „народно“. Дневной цикл труда, посвященного Богу, символизировал кругооборот всей человеческой жизни, а общее посильное участие всех членов прихода являлось выражением христианских начал жизни — братского единения и любви во Христе. Обыденные храмы нередко строились по обету за избавление от нашествия иноплеменных или стихийных бедствий, а также с целью умилостивления — во время голода, повальных болезней и т. д. Большинство в общем числе обыденных церквей составляют „моровые“, построенные во время чумных эпидемий XIV—XVII вв.».
Разночтения касаются и первого упоминания о храме. Кто-то называет 1611 год (видимо, подразумевая запись в «Новом летописце»: «Выехав из города, литовские люди зажгли церковь Ильи-пророка и Зачатьевский монастырь за Алексеевской башней, потом же и Деревянный город зажгли за Москвою-рекою. И видя такую погибель, побежали все, кто куда»). А иные деятели называют год 1612 (имея в виду фразу из того же самого источника: «24 августа… гетман с припасами двинулся к Москве. Князь же Дмитрий Тимофеевич Трубецкой с ратными людьми встал за Москвой-рекой, у Лужников. А князь Дмитрий Михайлович (то есть Пожарский — А.М.) встал со своей стороны Москвы-реки, у Ильи Пророка Обыденного, а воевод своих… поставил по рву, где был деревянный город. И послал против гетмана многие сотни»).
Но такие разночтения говорят лишь о халатности исследователей, а вовсе не об обилии различных версий.
Зато доподлинным считается тот факт, что в 1702 году богатый думный дьяк Гаврила Деревнин профинансировал постройку нового каменного храма на месте вконец состарившегося деревянного. Тут разным версиям неоткуда взяться — мудрый Гавриил, словно предвидя нерадивость краеведов будущего, заложил в северной стене дощечку с соответствующей надписью.
Архитектором, скорее всего, был Иван Зарудный, автор большинства московских храмов эпохи Петра I.
С тех пор история Ильинской церкви более-менее известна. В 1706 году московский бригадир Н. Болкунов пристроил северный придел (Симеона и Анны). В 1818 году возник южный придел — Петра и Павла (средства завещал П. В. Панов). В 1860-е построили новую колокольню и увеличили в размерах трапезную (в основном, на деньги Третьяковых).
Последний же до революции значительный ремонт был приурочен к 200-летию храма и состоялся в 1902 году.
Хотя храм был приходским, он иногда приобретал значение общемосковское. Это случалось в засуху, когда огромная толпа уставших москвичей ходила вокруг церкви крестным ходом и упрашивала Громовержца выручить несчастных горожан. А в 1875 году тут, стараниями ктитора В. Коншина, устроили церковно-приходскую школу.
Разумеется, во всякой справочной литературе перечисляются святыни храма — два подлинника Симона Ушакова (Спас Нерукотворный и Казанская Божия Матерь), иконостас начала восемнадцатого века. В справочник «Металлическое кружево Москвы» вошла даже чугунная решетка колокольни и чугунное крыльцо.
Но для прихожан гораздо большее значение имели всяческие мелочи, а также разные события собственной жизни, связанные с этим храмом. В частности, Елизавета Петровна Янькова оставила воспоминания о собственной свадьбе: «Мы жили близ Остоженки в своем доме и венчали меня у Ильи Обыденного поутру июня 5. Подвенечное платье у меня было белое глазетовое, стоило 250 р.; волосы, конечно, напудрены и венок из красных розанов — так тогда было принято, а это уже гораздо после стали венчать в белых венках из флерд-оранж. Батюшке угодно было, чтобы свадебный обед был у него в доме».
* * *
После революции жизнь храма словно и не изменилась. Андрей Козаржевский вспоминал об этом времени: «Церковную службу прихожане знали хорошо. Ведь это в основном были люди зрелые, воспитанные в православной вере. Молодежь же, попав во власть атеистической пропаганды, стыдилась или панически боялась ходить в церковь. В храме считалось недопустимым разговаривать, праздно прохаживаться или расталкивать молящихся в стремлении самому во что бы то ни стало самому поставить свечу. Не было надуманных „правил“ — передавать свечку только через правое плечо, складывать ладони лодочкой при словах „мир всем“. В противоположенность нынешним обычаям „Отче наш“ и „Богородице Дево“ все слушали, опустившись на колени. Не различали „добрых“ и „сердитых“ икон Богоматери, не впадали в полуязыческую номенклатурность, приписывая ангелам и святым помощь в сугубо конкретных житейских ситуациях и болезнях. Люди друг к другу относились дружелюбно, не делали замечаний, не ворчали. Словом, несмотря на гонения Церкви, шла размеренная приходская жизнь».
Разве что на большие праздники тут появлялись хулиганы (видимо, их подсылали специально), которые свистели и пихались. Но это были исключительные случаи, и сорвать службу все равно не удавалось.
Молодежь (как, впрочем, и совсем малых детей) всячески отговаривали от посещения Ильинской церкви. А. М. Пятигорский в книге «Философия одного переулка» упоминает такой случай: «…Сосед …инженер Гершенкрон, раз увидел, как шестилетний Ника пытается заглянуть в высокие окна храма Ильи Пророка Обыденского, и строго сказал: „Никочка, не подходи к церкви. Здесь — трупный запах. Она сама стоит на трупах“. Ника ужасно испугался, ему стало очень холодно (в церкви шло отпевание). Он решил, что сейчас его втащат внутрь, каким-то образом убьют и тут же закопают. Он бросился домой (дом был в двадцати метрах) и пересказал дедушке слова Гершенкрона. Дедушка потрогал лоб тонкими зеленоватыми пальцами и ответил так: „Виталий Эммануилович совершенно прав: все стоит на трупах. Церковь — тоже. Посмотри, вот сейчас строят метро. И где бы ни копали, везде находят человеческие кости. И то, что это (он не сказал „религия“) — смерть, тоже верно. Впрочем, что касается церкви, то мне кажется, что он принял за трупный запах ладана. Но может быть, в каком-то смысле и это — так“. У дедушки дрожали руки, и Нике показалось, что ему тоже холодно».
Стали меньше свадьбы праздновать, больше — поминки. Борис Зайцев в своем романе «Золотой узор» писал от лица главной героини: «На сороковой день мы служили службу «парастаз» — торжественное поминанье убиенных.
В церкви у Ильи Пророка собрались все, кто помнил, знал нас, может быть, любил… Худой, задумчивый священник в черно-серебряной ризе, читал перед аналоем, окруженным золотевшими свечами, дивные слова. Я полувисела на руках Маркела и Павла Петровича — очень изнуряли, очень потрясали меня самые рыданья. Сквозь них видела я сумрачную глубину церкви, теплый блеск, струение свечей и угловатый облик нашего священника».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: