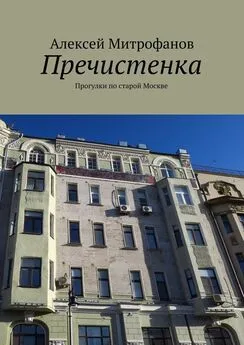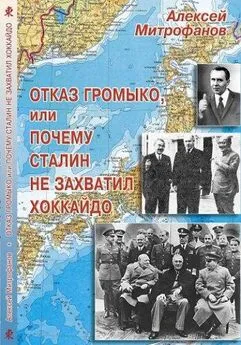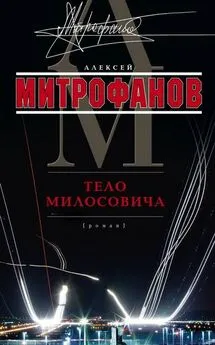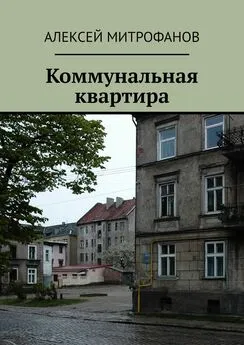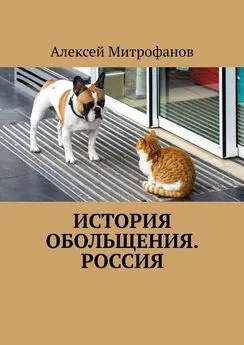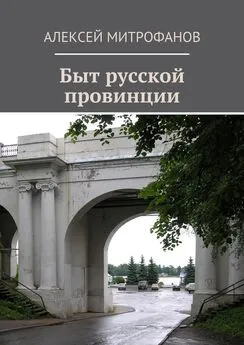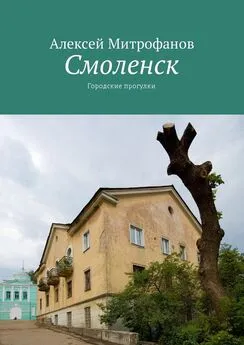Алексей Митрофанов - Пречистенка
- Название:Пречистенка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ключ-С
- Год:2008
- ISBN:978-5-93136-054-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Пречистенка краткое содержание
Пречистенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В лицее спешно наводились новые порядки. А когда в 1868 году в Москве был учрежден другой лицей, претензии Булгарина учитывались изначально.
Организатором его стал Михаил Катков — господин в высшей степени благонадежный. Задачи, судя по уставу, были несколько скромнее — не готовить государственных мужей, а «содействовать практической подготовке преподавателей для гимназий». Среди дисциплин значилось «фронтовое учение», этакая памятная со времен Советского Союза НВП (чего в Царском Селе даже представить себе было невозможно). А руководили лицеистами так называемые туторы (опекуны).
Туторы отслеживали все стороны жизни «прикрепленных к ним воспитанников» — от успехов в занятиях до соблюдения формы («шаровары темно-зеленые длинные», «пальто темно-зеленого сукна, двубортное, застегивающееся на шесть металлических пуговиц», «башлык общего образца верблюжьего цвета»). В туторской инструкции были рекомендации, пригодные скорее для агентов секретной полиции. Такая, например: «тутор… не упускает случая обогатить свой запас сведений из сношений со школьными и домашними наставниками ученика, с врачом лицея, с родителями и родственниками ученика и вообще со всеми лицами, с которыми ученик приходит в непосредственное общение».
Лицеист не мог расслабиться ни на минуту: «Если у воспитанников после приготовления уроков остается свободное на репетиции время, тутор заботится, чтобы это время было посвящено какому-либо полезному занятию». Отдельно прописывалось, чтобы ученики «не поддавались случайной или систематической лени». То есть у лицеистов просто не было возможности предаться праздным поэтическим мечтаниям. Похоже, даже думать следовало так, как тутор прописал.
Один из современников, уже упоминавшийся В. Иков вспоминал: «Мы имели перед глазами образец такой школы, т. н. Катковский лицей (позже им. цесаревича Николая), это был образцовый питомник для разведения будущих административных и магистратурных щедринских помпадуров разных рангов. Он состоял из двух отделений: обычного гимназического и 3-летних университетских юридических курсов; как общее правило, окончив «катковскую» гимназию, ее воспитанники поступали прямо на «катковские» же курсы. Здесь готовили будущих вице-губернаторов, чиновников для поручений, товарищей прокурора и прочих вершителей судеб царской России.
Сюда стекались представители золотой молодежи, потерпевшие крушение в своей учебной карьере в казенных гимназиях, побывавшие затем у Креймана (реже у Поливанова) и, наконец, убоявшись премудрости — скатившиеся к Каткову, на эту последнюю ступень падения в глазах учащихся других школ… В лицее мало интересовались вопросом о том, видел ли данный ученик Ермолову в роли Марии Стюарт, и его питомцы с юных лет отдавали предпочтение оперетте, фарсу, балету перед серьезным театром. Здесь, в лицее, взращивали чиновников для государственной службы, и табель о рангах здесь изучалась значительно раньше и внимательнее, чем таблица умножения».
Господин Иков сам был «поливановцем» — неудивительно, что он упоминал Ермолову в своих воспоминаниях.
Естественно, само название Катковского лицея стало нарицательным. Но слава у него была совсем не та, что у лицея Царскосельского. Поэт Шумахер, например, обмолвился в одном стихотворении:
Обозревал лицей Каткова.
Кого-то драли: слышал плач.
И вправду, новое учреждение в первую очередь славилось строгостью внутреннего распорядка и консерватизмом, доводимым до абсурда. И то, что некоторые его выпускники все же прославили себя в гуманитарных областях (Игорь Грабарь, к примеру), произошло скорее не благодаря, а вопреки старательной работе туторов.
Мастер на лыжах и без Маргариты
Жилой дом Емельяновой (Мансуровский переулок, 9) построен в 1834 году.
Остоженку с Пречистенкой соединяют множество маленьких переулочков, в которых можно встретить иной раз весьма уютное строеньице. Например, одноэтажный деревянный домик в Мансуровском.
Один из самых трепетных кусков булгаковского «Мастера и Маргариты» — описание жилища Мастера. Как известно, Мастер выиграл по облигации сто тысяч, накупил на эти деньги книг, а также снял две комнатки в подвале (а точнее говоря, в полуподвале) у застройщика.
Рассказ о своем аскетичном жилище Мастер ведет в психбольнице, знакомясь с поэтом Иваном Бездомным:
— Совершенно отдельная квартира с горячей водой, маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен… И в печке у меня вечно пылал огонь.
И далее о меблировке:
— Так… вот диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате — громадная комната, четырнадцать метров, — книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка!
Это описание почти автобиографическое. Михаил Афанасьевич имел в виду дом №9 по Мансуровскому переулку, рядом с улицей Остоженкой. Дом этот был построен в первой половине позапрошлого столетия для мещанки Емельяновой. Затем он перешел к поручику Ивану Полетаеву, после него — к купцу Сергею Топленинову, а после смерти этого предпринимателя — к его двум сыновьям, Сергею и Владимиру.
А там и революция, экспроприация, ходатайства перед наркомом Луначарским (брат Владимир, будучи актером, лично знал наркома просвещения), в результате дом вернули бывшим собственникам, что по тем временам пусть редко, но случалось.
У Топлениновых жил драматург Ермолинский, с которым дружил Михаил Афанасьевич (он, правда, дружил и с Топлениновыми, но больше все же с Ермолинским). Впрочем, приятелей в окрестностях хватало. Его тогдашняя жена Л. Белозерская писала в мемуарах: «Наш дом угловой по М. Левшинскому; другой своей стороной он выходит на Пречистенку (ныне Кропоткинскую) №30. Помню надпись на воротах: «Свободенъ отъ постоя», с твердыми знаками. Повеяло такой стариной… Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья жили в этом районе. Стоило перебежать улицу, пройти по перпендикулярному переулку — и вот мы у Ляминых.
Еще ближе — в Мансуровском переулке — Сережа Топленинов, обаятельный и компанейский человек, на все руки мастер, гитарист и знаток старинных романсов.
В Померанцевом переулке — Морицы; в нашем М. Левшинском — Владимир Николаевич Долгорукий (Владимиров), наш придворный поэт Вэдэ, о котором в Макином календаре было записано: «Напомнить Любаше, чтобы не забывала сердиться на В.Д.”… Шагнуть через Остоженку (ныне Метростроевская) — и вот они, чета Никитинских, кузина и кузен Коли Лямина».
* * *
Булгаков часто приходил в мансуровский домишко и, сидя в полуподвальчике, работал над своим романом. Так что обстановка была списана практически с натуры. Но параллелей между ощущениями Булгакова и выдуманного Булгаковым героя проводить все же не стоит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: