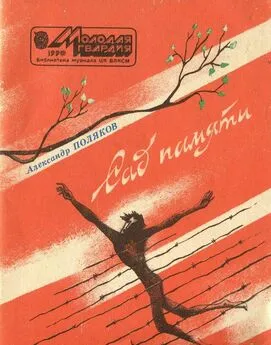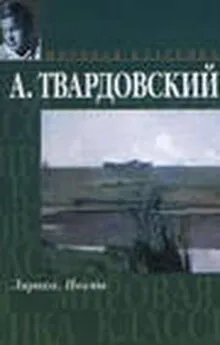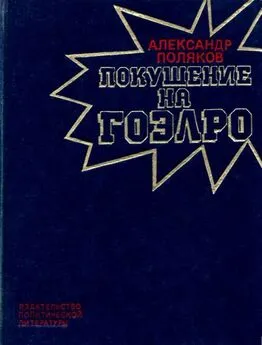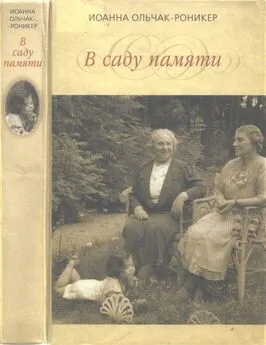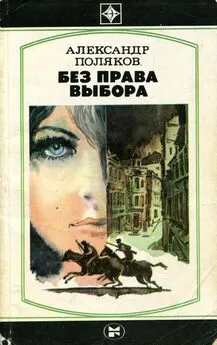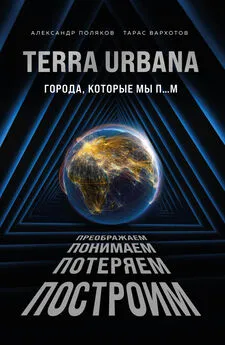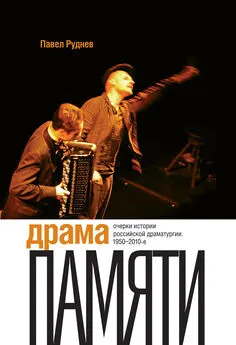Александр Поляков - Сад памяти (Очерки)
- Название:Сад памяти (Очерки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-235-01164-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Поляков - Сад памяти (Очерки) краткое содержание
Сад памяти (Очерки) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он проводил поднявшийся вертолет взглядом и снова остался один. Один на сотни студеных белых верст. Но теперь я думаю: один человек — это не так уж и мало…
А вертолет спешил к Певеку. Через час с небольшим внизу уже виднелись огни райцентра. В аэропорт не пошли — время было дорого. Сели со снайперской точностью на лед бухты, в десяти метрах от больницы. И через считанные минуты хирург Салманов приступил к операциям, которые, замечу, прошли успешно; Пашкуров, Соловьев и Иванов выписались, вернулись на работу в свой совхоз, чувствуют себя хорошо.
Мои знакомые пилоты дружат давно, видятся ежедневно, но летают вместе не так часто. Все они мастера своего дела каких поискать и работают в разных экипажах.
— Но когда надо, — сказал мне Николай Герасимович Перевалов, заметно гордясь своими подчиненными, — они садятся рядом и выполняют любое задание. Да, любое! Ведь поисковый полет ночью в горной местности был для каждого первым. Им многое по силам, потому что они — коллектив, сформировавшийся в настоящем деле, пускай не сразу и не просто, но зато прочно и надежно…
Если вы окажетесь в беде, знаю, эти люди придут к вам на помощь первыми, придут без лишних фраз и поз, превосходно понимая, как облегчить вашу участь и спасти. Впрочем, они уверены: и вы поступите точно так же, случись что. Негласный арктический кодекс, который особенно чтут северные пилоты, врачи, отлично сознавая, кто они тут есть. Этот кодекс они несут и в другие, более теплые города, и даже в другие страны — отпуск у них немалый, а путешествовать северяне любят, — порой изумляя своими поступками тех, кто привык жить иначе…
И еще они знают: нет пурги, которая бы не кончилась, нет тумана, из которого бы не нашлось выхода; главное — держаться и идти вперед. Давно экипаж следует этому правилу.
А с обеда летчики распрощались до вечера. Началась опять будничная работа. Кто-то повез бочки с горючим на остров Врангеля, кто-то продукты в геологические партии в район рек Кэвеем и Эргувеем. На приисковом участке «Майский» вертолет с нетерпением ждала усталая вахта — людей нужно было отправить домой. Взлет, посадка…
Волокитин надевает плащ, прощается. На днях он улетает отдыхать в Югославию, жена Капитолина Николаевна — на Кубу. Но отпуск кончится, и они снова будут там, где ждет командира его экипаж, где безморозных дней в году лишь тридцать, где обрушивается на маленький город злой «южак», порой сбивающий с ног, срывающий крыши, и где первые корабли навигации встречают смехом, музыкой и криками «ура».
Волокитин скажет:
— Погоду экипажу, синоптик.
— Даю, командир, — ответит Волокитина.
Старшина не сдается
Жизнь полна совпадений.
На пороге своей квартиры меня встречал Герой Советского Союза Александр Матросов. Взгляд зеленых глаз был ясен, цепок и насмешлив.
— Так точно, родился я 22 июня здесь, в Иванове. Родители ткачи, да и я ткач. Стало быть, ткалось «судьбы моей простое полотно» до одного из дней рождения, до 22 июня сорок первого. Правда, я тогда уже в армии служил, в Приморье. И — бросок через страну, Москву защищать. Ничего, защитили…
Нет, они не родственники с легендарным Александром Матросовым — однофамильцы. («А все же он Матвеич, я — Алексеич. Похоже, а?») Эти русские солдаты дрались на разных фронтах и в жизни никогда не встречались. Один, под чьим сердцем задохнулся вражеский дзот у деревни Чернушки, был автоматчиком, другой — разведчиком, и не просто, а лучшим разведчиком в дивизии. Когда никак не удавалось взять контрольного «языка», а он требовался позарез, командование ворчало в трубку: «Пошлите Александра Матросова, чего тянете…»
Посылали. «Язык» был.
Как видите, еще совпадение: Матросовы оказывались там, где было особенно жарко, где для решения боевой задачи шли в ход все силы, все возможности (и невозможности тоже) без сбереженного на потом НЗ.
Дзот давился собственным огнем. Горстка разведчиков сдерживала натиск рвущегося к мостам врага, не давала взорвать их.
Перед поездкой к Александру Алексеевичу Матросову вдруг дрогнуло сердце: увидел подпись под фотографией в книге — «Воспитанники Ивановского детского дома. В третьем ряду шестой слева — Саша Матросов. 1938 г.».
Ивановского?
Спокойно, велел разум. Это просто деревня Ивановка под Ульяновском: там в детском доме рос тот, чье имя сегодня знает каждый. Не Иваново, где жил Алексеич, а Ивановка, дом Матвеича… Но Ульяновск — это Волга. А река Уводь, где стоит Иваново, — приток Клязьмы, а та, сливаясь с Окой, сливается и с Волгой… Снова совпадение? Нет, это много больше, чем совпадение, — все мы связаны страной, историей, великими реками, любовью, уходящим, немало повидавшим веком. Мы связаны благословением матерей, дружескими рукопожатиями, одинаковыми именами. Мы связаны болью за несвершившиеся из-за войны человеческие судьбы. Многим. Всем.
«Он — Матвеич, а я Алексеич…»
Пусть разные отчества, но у Героев Советского Союза, русских солдат Александров Матросовых, отечество было одно.
Александр Алексеевич Матросов попал в разведку 601-го стрелкового полка 82-й дивизии, позднее знаменитой Ярцевской — Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова — в конце сорок второго. Попал по собственному желанию. Но на первом задании, как он сам считает, посмеиваясь в свои бравые усы, дал маху. Зацепился маскхалатом за проволоку, загремели банки-склянки, а новоиспеченный «глаза и уши» полка вскочил, ничего не видя и не слыша, встал истуканом под очередями и разрывами. Спасибо, кто-то сбил с ног, прижал к сугробу. Возвращался мрачный: «Опозорился дебютант. Упал в оркестровую яму. Забросан тухлыми яйцами…» А разведчики — народ находчивый, на язык ядовитый, остроумцы, но тут им как педагогам честь и хвала:
— Сашка-то храбрец! Осколки для него что снежинки, а пули — семечки…
Через несколько дней принес он на себе из ночной вылазки здоровенного фельдфебеля, упрямого, как сатана: мол, хотите, тащите меня сами, а иначе не пойду. Естественно, фашист так изъясняться не мог — мешали языковой барьер и кляп, но поведением выказывал именно это. Пошли навстречу пожеланию. Сведения оказались ценными. За этого «языка» и был награжден Матросов первой медалью — «За отвагу».
Слишком просто? Не скажите. Я ведь опустил, как несколько часов разведчики лежали на морозе, как выслеживали фашиста, как Матросов гонялся за ним по немецкой траншее, вязал его, как потом падали мины и товарищи прикрывали его отход, отходили сами, оставляя на снегу кровавые следы.
Осколки не снежинки, пули не семечки.
Фронтовые «год за три» относились, понятно, и к дням. Обучение боевым практическим наукам шло по ускоренной войной программе. И вскоре опытный разведчик, старший сержант Александр Матросов, был переведен в дивизионную разведку, назначен командиром второго взвода. Через полгода на гимнастерке взводного сияла вторая медаль «За отвагу» — группа Матросова после неудачных попыток других групп взяла стоящего «языка», связиста, напичканного важными сведениями, как вещмешок бывалого разведчика разными полезными разностями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: