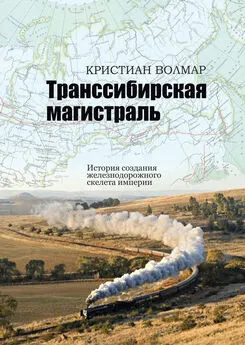Кристиан Крахт - Империя
- Название:Империя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-156-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кристиан Крахт - Империя краткое содержание
Энгельхардт приобретает кокосовую плантацию на острове Кабакон и целиком посвящает себя — не заботясь об экономическом успехе или хотя бы минимальной прибыли — теоретической разработке и практическому осуществлению учения о кокофагии.
«Солнечный человек-кокофаг», свободный от забот об одежде, жилище и питании, ориентируется исключительно на плод кокосовой пальмы, который созревает ближе к солнцу, чем все другие плоды, и в конечном счете может привести человека, питающегося только им (а значит, и солнечным светом), в состояние бессмертия, то есть сделать его богоподобным.
Империя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многочисленные «дорожные указатели», разбросанные по тексту
Что Крахт всегда использует не один, а несколько образцов (или, по крайней мере, намекает на их существование) и рассказывает о большем, чем просто какая-то одна история, подтверждается наличием в его тексте «дорожных указателей», а также немногими распознаваемыми автореференциями и приписками, будто бы сделанными кем-то другим. Поэтому можно понять писателя Марка Буля, упрекающего Крахта в заимствовании каких-то мотивов из его романа «Парадиз Августа Энгельхардта», который был опубликован за год до «Империи» и с добавлением некоторой доли вымысла рассказывает о том же персонаже, что является протагонистом романа Крахта.
Но Крахт не ограничивается одним лишь этим источником, не только этот образец он переписывает и заставляет исчезнуть в космическом пространстве своей «Империи». Если критики, вполне аргументированно, говорят о наличии в «Империи» Крахта следов влияния Германа Мелвилла, Джозефа Конрада и Джека Лондона, то сам автор с не меньшими основаниями ссылается на Эриха Кестнера и представляет роман как итог своей попытки писать «по-кестнеровски». Не менее отчетливо прослеживается в «Империи» и влияние стилистики тех авторов, которые в самом романе появляются как эскизно очерченные, квазиисторические фигуры: скажем, Германа Гессе или несомненно узнаваемого (что уже многократно отмечалось критикой) Томаса Манна.
Например, похоже, что «крепкий английский портер», который в процитированном выше начальном абзаце «Империи» получают на завтрак пассажиры парохода, попадает на их стол непосредственно из манновской «Волшебной горы». Этой смутной догадке легко найти подтверждение, пролистав «Волшебную гору», действие которой тоже разворачивается в начале XX века и которая также и в других отношениях может оказаться полезной для понимания «Империи». О Гансе Касторпе рассказывается, что еще в детстве ему «за третьим завтраком … непременно давали добрый стакан портера…» — «…как известно, напитка весьма питательного; кроме того, доктор Хейдекинд приписывал ему кровообразующие свойства; во всяком случае, портер усмирял буйных духов жизни, просыпавшихся в теле Ганса Касторпа, и успешно содействовал его склонности „клевать носом“, … говоря попросту — сидеть распустив губы и грезить наяву».
Уже этот короткий отрывок показывает, что в «Империи» Крахта не только пиво попадает на стол завтракающих пассажиров парохода прямо из романа Томаса Манна. Но как крахтовские «пассажиры, которые погрузились в сон сразу после плотного завтрака» наводят нас на мысль, что в «Империи» более чем отчетливо просвечивает описание воздействия пива из «Волшебной горы», с такой же несомненностью нам кажется, что Крахт отчасти заимствует и саму повествовательную манеру манновского романа, пусть и прилагая ее к несколько иной ситуации (как в случае с охмелевшими от портера плантаторами во вводной сцене):
«Именно чрезмерное пристрастие к пиву придавало возвращающимся домой плантаторам в неизменных бело-фланелевых костюмах — тем, что дремали в шезлонгах на верхней палубе „Принца Вальдемара“, вместо того чтобы нормально поспать у себя в каюте, — такой непрезентабельный и, можно сказать, неряшливый вид. Пуговицы на их ширинках еле-еле держались, жилеты были усеяны шафранно-желтыми пятнами от соуса. Смотреть на такое невыносимо. Бледные, заросшие щетиной, вульгарные, похожие на земляных поросят, они медленно пробуждались от пищеварительного сна: немцы в зените своего мирового влияния…»
Как не всегда понятно, действительно ли описания и трансформации Крахта основаны на каких-то уже имеющихся образцах или только создают видимость, будто такие образцы имеются, так же мы не всегда можем однозначно ответить на вопрос, идет ли речь — в случае с крахтовскими «переписываниями» — о персифляже или о пастише (который, по мнению специалиста по теории повествования Жерара Женетта, в отличие от персифляжа, не рассчитан на сатирический эффект).
Но, независимо от таких тонких различий в понятиях, «Империя» Крахта отчетливо демонстрирует, что здесь трансформации и подражания не в последнюю очередь используются для того, чтобы произвести комический эффект. Сказанное относится и к клишированным представлениям о колониях, которые выпячиваются посредством навязчиво нагромождаемых прилагательных, и к изображениям немецких плантаторов, чиновников и участников движения за целостное обновление жизни, которые все поголовно предстают как весьма примечательные, имеющие каждый свои чудачества, объективно комичные персонажи.
Этот эффект еще более усиливается благодаря присутствию рассказчика (словно бы витающего над предметом повествования), чья добродушная суверенность в конечном счете выглядит не менее комичной, чем сами фигуры, о которых он рассказывает и над которыми будто бы воспаряет благодаря своей иронии. Вновь и вновь оказывается, что «туман неопределенности, свойственной любому повествованию» (на который рассказчик прямым текстом ссылается в одном месте романа) самим этим рассказчиком и создается. Все в новых ситуациях рассказчик, будто бы всезнающий, разоблачает себя, сознательно или нет, как в высшей степени ненадежную инстанцию, и от него то и дело ускользает то, что он пытается предъявить нам в качестве реальности.
Такая форма ускользания тоже подвергается рефлексии в тексте, и в этом случае, опять-таки, именно фигура губернатора Халя служит переключателем на соответствующую рефлексию. В одном из многочисленных в этом романе пролепсисов идет речь о будущей судьбе Альберта Халя: он показан как чудаковатый исследователь-любитель, который рассылает разным людям «длинные письма», «как это свойственно стареющим мужчинам, чувствующим, что они вдруг оказались на обочине жизни». Одно из таких фиктивных, но в контексте этого фиктивного повествования вполне действенных писем заставляет нас задуматься о возможности обусловленных медийными средствами усложнений, которые не в последнюю очередь имеют отношение и к истории, в которой о них рассказывается:
«Философ Эдмунд Гуссерль тоже получает письмо от Альберта Халя: густо исписанное 8о-страничное послание, суть которого сводится к тому, что все мы, люди, будто бы живем в некоем подобии очень сложно устроенного кинофильма или театрального спектакля, однако не догадываемся об этом, поскольку режиссер превосходно инсценирует иллюзию…»
В конце же романа вновь подхватывается (можно сказать, еще раз проецируется ) представление, которое играет немаловажную роль уже в начале рассказываемой нам истории, потому что оно эту историю замутняет, радикально ставя под сомнение будто бы присущий ей статус реальности. Я имею в виду, что во второй главе — где главный персонаж, посредством повествовательного флэшбэка, переносится на Цейлон и где в форме аналепсиса показывается предыстория первой главы (то, что происходило до прибытия Августа Энгельхардта в Хербертсхёэ), — прежде спокойное повествование на короткое время будто выпадает из предусмотренных для него рамок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Брайан Стэблфорд - Империя страха [Империя вампиров]](/books/118685/brajan-steblford-imperiya-straha-imperiya-vampirov.webp)
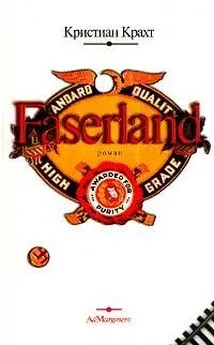
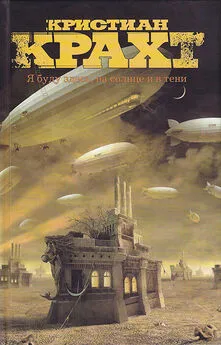

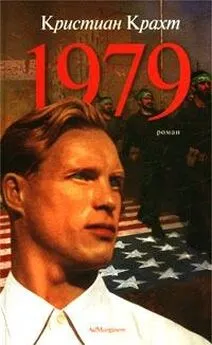

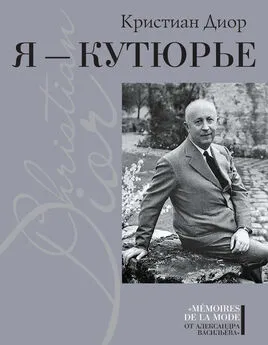
![Айзек Азимов - Основание и Империя [Академия и Империя]](/books/1141557/ajzek-azimov-osnovanie-i-imperiya-akademiya-i-imper.webp)