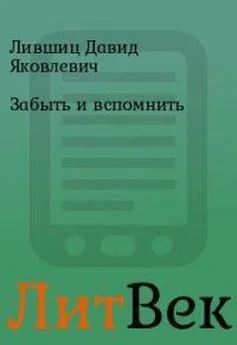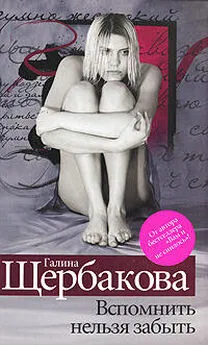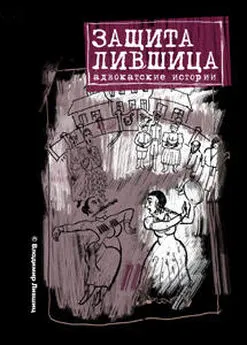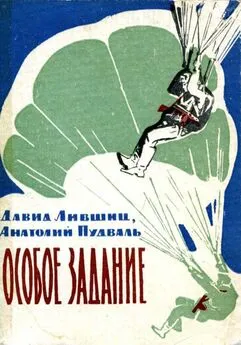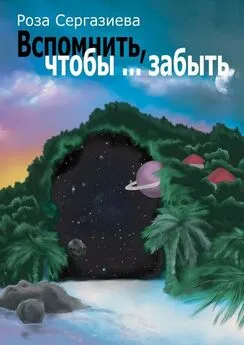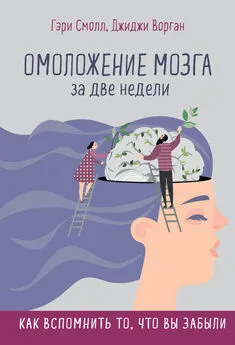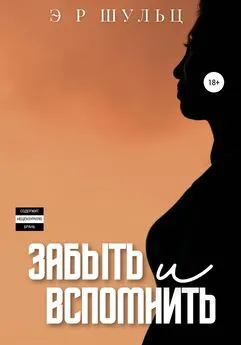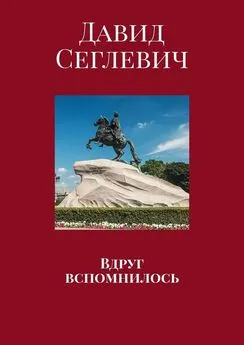Давид Лившиц - Забыть и вспомнить
- Название:Забыть и вспомнить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Лившиц - Забыть и вспомнить краткое содержание
Родился в 1928 году.
Закончил Уральский Государственный университет им. А.М. Горького.
Работал в газетах, на телевидении, в журналах “Урал” и “Уральский следопыт”.
Автор нескольких книжек для детей, альбома “Признание” (фотографии Нади Медведевой) - о Свердловске, документальной повести “Особое задание” (совместно с А. Пудвалем), сборников стихов “Предчувствие ностальгии”, “Негевский дневник”…
Книга -”Забыть и вспомнить” – из последнего.
В 1992 году переехал к детям в Израиль. Живёт в Беэр-Шеве, городе, многократно упоминаемом в Библии.
Член Союза журналистов России, член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Забыть и вспомнить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
* * *
Из всех определений счастья наиболее интересное, по-моему, вот это: счастье - это отсутствие несчастья. Счастье - категория прошедшего времени. Только оглянувшись можно сказать, испытал ли его или нет.
* * *
Одно из лучших изречений я услышал из уст моей жены, - в пору её учительства. Как-то, придя из школы, она посетовала, что снова поставила «тройку» отпетому двоечнику. На моё замечание, что надо быть принципиальной, и что завуч выговор даст ей за подобные компромиссы, ответила, что завуч никакого выговора не даст.
- Тогда директор накажет.
- И директор ничего не сделает, - отвечает.
- Ну, не директор, так зав. районо, - продолжал настаивать я.
- И зав. районо не накажет, даже и вникать не станет.
- Но почему?
– Потому что каждый хочет быть обманутым!
Эта формула стала в какой-то момент глобальной государственный правдой.
* * *
ФЕНОМЕН
Талантливый Саша Лысяков. Фотограф, художник, кузнец. Возрожденческий тип. Теперь он известный умелец по железу – его прославили собственные работы и статьи о них. Репродукции с его картин печатали зарубежные иллюстрированные издания. О нём рассказывало телевидение всех уровней. Писали журналисты. В том числе и пишущий эти строки. Едва ли не первым он стал, в одиночку, возрождать знаменитое когда-то на Урале, но заброшенное искусство ковки. Реалист в металле, он в живописи был фантазёром. Писал локальным цветом. Любил изображать рыб, выглядевших, как закодированные люди. И в причудливых изгибах линий и контуров загадочных плавников угадывались черты природы и храмов. А одно из его живописных полотен выглядело так: яркий красный лакированный трамвай стоит за оградой из штакетника, в палисаднике… впритык к избе. Трамваю тесно. По всем законам пространства, ни он, ни рельсы не могут ни оказаться здесь, ни уместиться. Но трамвай стоял – праздничный и яркий, прямо возле резных наличников. Саша пробовал объяснить мне, что подвигло его на этот сюжет. Но речь сейчас не об этом. Речь о… корове. Огромное полотно, метра два на три, изображавшее корову, занимало целую стену в секретариате. Висели и другие картины его, вдоль коридора. Писал наш фотокор для души, картины его не покупали. Да он и не предлагал никому. И мастерской, само собой, у него не было, - так, счастливый подвальчик в доме, где обитала редакция. Значит, корова. Эта корова завораживала. Она была сыта, огромна, абсолютно реалистична, но огромные контуры, огромные черные на белом фоне контуры (их даже пятнами неловко назвать) смущали какой-то мистической похожестью на контуры материков. Достаточно, чтобы напоминать их, и недостаточно, чтобы полностью совпадать: гадай в меру своей фантазии. На картине корова стояла боком. Даже демонстративно, напоказ. На все вопросы, на что, мол, Саша, намекаешь, он загадочно отмалчивался. Прошла уйма лет. Вечность. В жизни многое перевернулось. Я уже давно был на пенсии. Уезжал в Израиль, к детям и внукам. Саша, с которым не виделись много лет, прослышав про мой отъезд, пришел попрощаться. Во время одной из первых экскурсий на новом месте, оказался я в кибуце, в Негеве. Многое понравилось мне и поразило воображение. Ухоженные каменные дома со всеми удобствами, асфальтовые дороги и тротуары, шикарная столовая, подстать столичным городам, бассейн – всё это было таким неожиданным для человека, не понаслышке знавшего колхозные постройки и российские деревни. На ферме я увидел автоматизированное чудо дойки. Компьютеры, датчики и прочие вещи. Да музыку ещё. Да одного рабочего на два пролёта… И никаких кликух – Муська, Зорька, никакой сельской романтики, только датчики, да номера на лодыжках. Но главное ждало впереди. В назначенный час дойки сами собой явились коровы и встали у своих станков. Парень в комбинезоне подключил агрегаты… И тут я увидел! Коровы были не просто породистые, ухоженные, у каждой вымя, как аэростат Монгольфьера. Это были Лысяковскиекоровы, – чёрные континенты материков на белых боках, - одна к одной, как близнецы. Я давно забыл про картину Лысякова. А тут вспомнил, потому что это она, двигалась и мычала. И были они, эти создания, похожие, словно клонированные, говоря сегодняшним языком. Как мог художник, живя за пять тысяч километров от этих мест, прозреть фантазией то, чему никогда не был свидетелем? Или, если говорить по-другому, как могла природа угадать замысел художника? Я не ищу и не вижу в этом эпизоде каких-то многозначительных совпадений, или подтекстов. Но кто бы мне объяснил, что это значит. Или природа метит своей фантазией разные источники? Неспроста у жизни выдаёт кульбиты. Что-то за этим да кроется!
* * *
Знакомый хирург однажды сказал:
- Нынче от аппендицита практически не умирают. Ну, один человек на сто тысяч.
- Какая-то тысячная доля процента!? – спрашиваю.
- Хм!.. Для конкретного человека – это сто процентов…
Год спустя при операции аппендицита умер полковник медицинской службы, главный офтальмолог военного округа, прошедший всю войну. Фамилия его Глузман, он был другом моего знакомого хирурга.
* * *
- Мужчина должен сидеть за письменным столом и работать!
Эти слова любила повторять Неля, жена Юрия Мячика. Имя Юрия Мячика нынче известно, разве что небольшой группе литераторов, да театралов. А между тем, в пятидесятые-шестидесятые годы это имя было у многих на устах. И не только в его родном Свердловске. Написанная им лирическая пьеса в стихах была поставлена Свердловским драмтеатром, а потом несколько сезонов с успехом шла более чем на двухстах сценических площадках страны. Как говорят в таких случаях, на другой день он проснулся знаменитым. У Юры появилось много денег, и ещё больше друзей. Был он человеком добрым, компанейским, многие тянулись к нему. Представление о жизни Юры в ту пору я получил, оказавшись как-то в его компании. Когда заполночь выяснилось, что всё выпито, а хочется ещё, но магазины закрыты, - Юра вызвал такси и пригласил всех в аэропорт. В ночном ресторане и гуляли под гул аэродрома до утра. В диковину мне было видеть разносолы на столе и широкие развороты Юриного бумажника. Если это было для Юры привычным делом, то понятно, почему счастье быстротечно. Деньги со временем кончились, друзья рассосались. Юра пробовал писать новое, но удача не повторилась. Постепенно он всё реже и реже тянулся к чернильнице. Слонялся по городу. Посиживал в редакциях, перекидывался разговорами со знакомыми. Неля, Юрина жена, женщина добрая и с сильным характером, врач, известный в городе специалист и, как говорится, человек с положением, любила мужа. И время от времени говорила, к слову, скрывая вздох: мужчина должен сидеть за письменным столом и работать. Это не было назиданием или занудством. Не было это и честолюбивой мечтой о новом успехе мужа, в лучах которого и её тепло. Это было просто желание семейной гармонии, как она ей виделась. Приходит ли она с работы, возится ли дома по хозяйству, - в любую минуту заглянув в комнату, должна увидеть: мужчина сидит за письменным столом и работает. И всё.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: