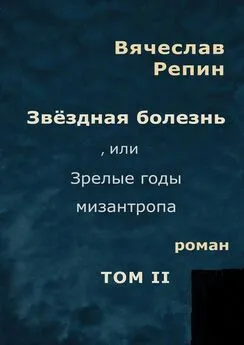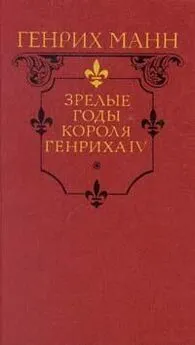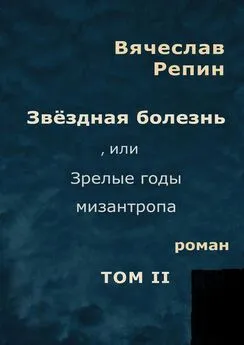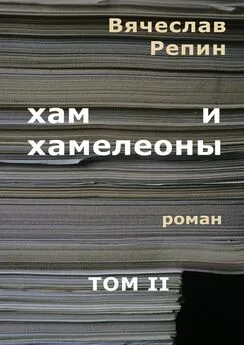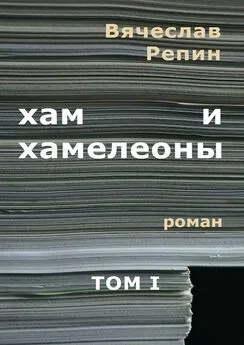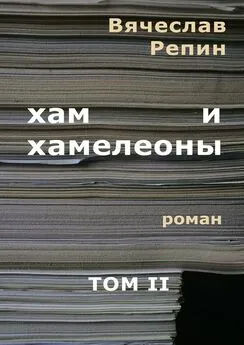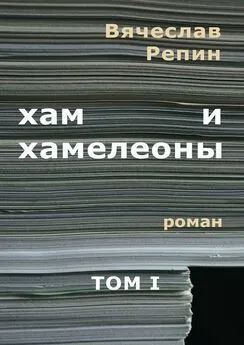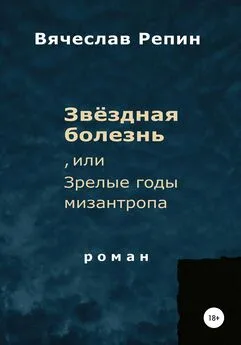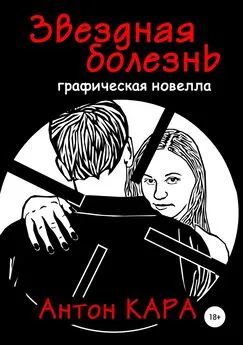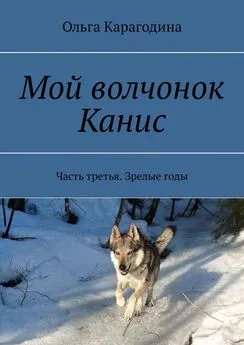Вячеслав Репин - Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 2
- Название:Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательские решения
- Год:2017
- ISBN:978-5-4485-1197-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Репин - Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 2 краткое содержание
Роман повествует о судьбе французского адвоката русского происхождения, об эпохе заката «постиндустриальных» ценностей западноевропейского общества.
Роман выдвигался на Букеровскую премию.
Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Какая связь могла существовать между этой внутренней работой над собой, наверное не такой уж случайной, просто нахлынувшей как-то не вовремя, в которой любой нормальный человек мог бы увязнуть неожиданно для себя, и его новым внезапным увлечением настоящими красками, попытками написать настоящую картину при помощи красок на холсте, натянутым на подрамник, какими пользуются художники, вложив в этот процесс весь свой новый опыт, — а именно этому Петр и посвящал сегодня всё свободное время, — он и сам не смог бы всего объяснить.
Еще вчера всё это показалось бы праздной блажью. Но он чувствовал, что эта связь существует, прямая и неразрывная. Разве живопись, да и любой другой вид искусства, если речь идет конечно об искусстве, а не о жалких потугах дилетанта, возомнившего о себе непонятно что, — разве живопись не преследует ту же самую цель? Разве она не пытается найти ответы на те же самые вопросы? Разница, по-видимому, лишь в методе, в подходе, в ракурсе. Живопись, искусство опираются на другие, более интуитивные средства познания.
Однако простых, однозначных ответов здесь уже не было вообще. Да и вопросы, всё новые и новые вопросы, всплывали лишь для того, как ему иногда казалось, чтобы с максимальной четкостью очертить концы какой-то палки о двух концах — выявить границы не знания, как такового, а именно «незнания». И это уже совсем разные вещи…
Гостиная превратилась в мастерскую. Вся мебель, стоявшая здесь прежде, теперь была вынесена в другие комнаты. Оставшаяся теснилась по углам — стол, кресло, пара стульев, диван, сдвинутый к окнам и застеленный простынею. Однако не только гостиную, но и всю нижнюю часть дома теперь загромождали подрамники, голые и уже натянутые. По углам стояли рулоны грунтованного холста, коробки с красками и растворителями. Всем этим добром Петр обзавелся впрок, гонимый отчасти опасением, что если покупать всё это в небольшом количестве, то в магазине для художников его примут за дилетанта и не захотят доставлять громоздкие покупки в Гарн…
Мир гостиной, в котором он проводил большую часть дня, казался зыбким, временным, далеким от реального мира, который не переставал напоминать о себе. Но с другой стороны, всё здесь дышало каким-то новым конкретным смыслом. Смысл виделся ему во всем, что он делает. Этот смысл менял свои оттенки, минутами ослабевал и даже бывало улетучивался совсем, но ненадолго. Вскоре он вновь становился насыщенным, переполняющим. И всё это независимо от внешнего мира. Во внешнем мире, смотревшим в окна, тоже в общем-то похожим на изображение на картине, казалось, нет никакой нужды. Всего этого в жизни Петра прежде не было. А впрочем, даже чувство осмысленности происходящего становилось иногда невыносимым — именно потому, что заставляло ставить под вопрос всё прежнее.
Особенно часто это чувство преследовало по утрам, в минуты бодрости, когда, хорошо выспавшись — а он спал как никогда крепко, — Петр готовил себе кофе, приносил поднос в гостиную-мастерскую, дымил там первой с утра сигаретой и, разглядывая сделанное накануне, наслаждался блаженно-отравляющей вонью скипидара, запах которого из комнат уже не выветривался. Он как наркоман упивался своей дозой — тишиной, в которой тонул дом и сад, ощущением своих сил. И в то же время с какой-то панической трезвостью он вдруг сознавал, что, прожив на свете сорок лет, он потратил время на что-то такое, что никогда не являлось для него в жизни главным и что нагнать упущенное ему никогда уже не удастся, на какие бы перемены в своем существовании он сегодня ни отваживался, на какие бы жертвы ни шел. Жизнь дана человеку один раз, никому не дано прожить одновременно несколько жизней…
Петр писал темные, несколько мрачные картины с преобладанием в палитре черного или черно-коричневых тонов, которых он добивался почти как профессионал — посредством смешения сажи газовой с умброй и охрой. Обильной цветовой гаммы он избегал несознательно, просто потому, что чувствовал: броские цвета могут помешать сосредоточиться на главном, подобно тому как неточность слов или слишком большое количество порождаемых словами ассоциаций может иногда помешать выразить самую простую мысль, и уж тем более донести ее до кого-то другого. Ему казалось более важным добиться однотонного универсального цвета, но такого, который вмещал бы в себя все возможные оттенки и как бы больше не являлся тоном как таковым.
С первого же большого холста Петр погряз в бездонной неразберихе абстрактной композиции. При этом, как когда-то с ним уже случалось, он до глубины души поражался тому, как сложно перенести на поверхность натянутого загрунтованного холста простейшую форму, которая с такой ясностью может существовать в воображении.
Прямоугольные, неровные фигуры, отдаленно напоминавшие квадраты, которые в сопоставлении между собой, своими пропорциями должны были отображать «период», вычлененный из бесконечности самим форматом холста, — эти фигуры в воображении выглядели гораздо значительнее, даже изящнее. На холсте они превращались в нечто совсем плоское, чуть ли не банальное. Вся метафоричность, которая в них изначально вроде бы присутствовала, вдруг исчезала. Эта борьба с собственным воображением, постоянные сомнения, которые она вызывала в себе, бывала по-настоящему мучительной. Хрупкие решения приходилось принимать на каждом шагу. Внутреннее напряжение не выпускало из своих тисков.
Однако следующий холст давался уже легче. Для этого достаточно было сосредоточиться на исправлении допущенных ошибок. К этому, собственно, и сводилась работа над каждым последующим холстом. Все усилия были направлены фактически на слияние сделанного, на то, чтобы влить, перенести содержимое каждой отдельной картины, которая представляла собой своего рода фрагмент целого, в нечто общее, единородное и нечленимое, в какой-то единый воображаемый холст, в объединяющий образ, в одну сущность. Но он даже не знал, как это называть. При этом ему казалось важным сохранить «период» не как форму, а как содержание — примерно так же, как если бы из множества кирпичей пришлось бы выстроить форму, напоминавшую кирпич в увеличенном размере.
Каким образом на замкнутой, ограниченной плоскости — ведь холст являлся куском пространства, своего рода сечением — можно отобразить всю полноту бесконечности? Каким образом единичное может отображать целое? Эти вопросы тоже требовали определенной ясности. Ответ следовало искать конечно же в самом понятии «образ», в закономерностях, которым «образ» подчиняется. Но понятие «образ» — вещь скорее необъятная, да и явно другого порядка. Оно расплывчато в самой своей формулировке, является слишком обобщающим, чтобы привнести хоть какую-то ясность. Получалось ровно наоборот: стоило лишь попытаться углубиться в размышления об этом, как всё сразу же тонуло в еще большей путанице.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: