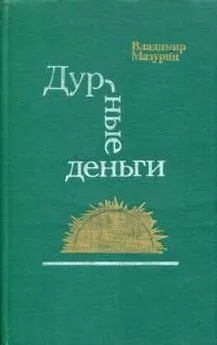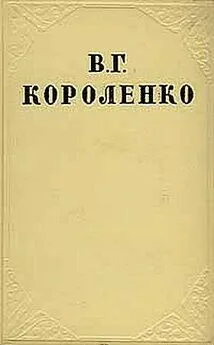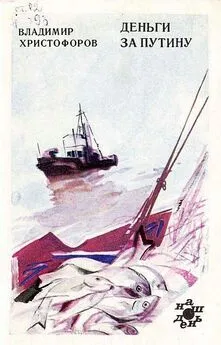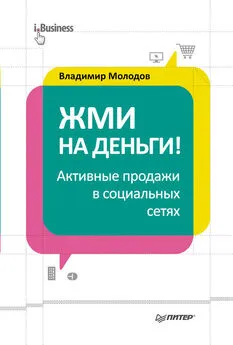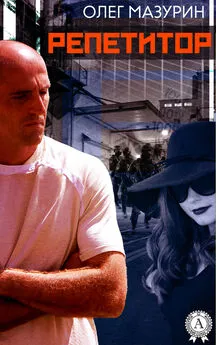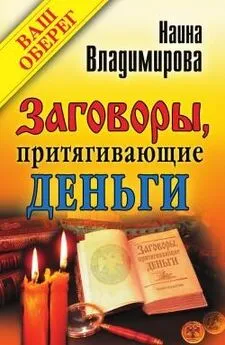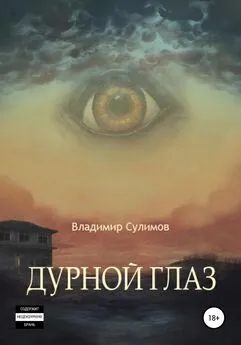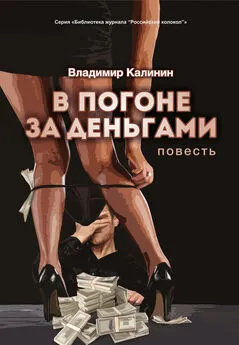Владимир Мазурин - Дурные деньги
- Название:Дурные деньги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-270-00735-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Мазурин - Дурные деньги краткое содержание
Дурные деньги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К счастью, не довелось мне в скоростной наш колесно-моторный век утратить привычки к пешим прогулкам и переходам. С детства она внедрилась в душу, засев там прочно и, похоже, надолго. Привычки не бывают врожденными, они не передаются по наследству, а чаще всего диктуются жизненными обстоятельствами. Нас они, обстоятельства эти самые, слава богу, не баловали, не устилали наши дороги травкой-муравкой, не разравнивали их, не заделывали предупредительно ямы и колдобины, чтобы мы, чего доброго, не споткнулись, не оступились, нос себе не расквасили. Если же случалось нам ездить по ним, то чаще всего на жестких и тряских телегах, а не в мягких автобусах и родительских «Жигулях». Закончив к одиннадцати-двенадцати годам местную четырехлетку, мы вынуждены были ходить за знаниями в Палех — за шесть километров, ежели напрямую, а если в обход, то и того больше. Осенью, до снегов и морозов, и весной, после половодья, каждый день ходили: шесть километров туда и шесть — обратно. В зимнее время жили на частных квартирах и домой попадали только на выходной. Бывало, ждешь субботы не дождешься, а в субботу мороз ударит под тридцать градусов или вьюга разыграется такая, что чертям тошно. Дорогу в поле переметет, передует — ни следочка тебе, ни заметинки по бокам, идешь — то и дело в снег оступаешься, валенками его черпаешь, но все равно домой бежишь как на праздник, и никакие силы небесные тебе не помеха, потому что донельзя соскучился по нему за пять дней. Ну, а в понедельник запасешься едой стараниями матери, которая ради тебя, чтобы пирогов напечь, в три часа поднялась, — и в обратный путь, еще затемно, с первыми звуками гимна, передаваемого по радио, потому что боже упаси опоздать к началу уроков: учителя нам ни на погоду, ни на бездорожье скидок не делали. Вспомнилось еще, как преодолевали реки в половодье. Их три у нас было на пути до Палеха — Леска, Шерстниха и Курмоса. Летом почти незаметные в траве, весной разливались они, как говорили мы тогда, «от леса до леса». Для Шерстнихи наших резиновых сапог еще хватало, кое-как — по мосткам, по старому полуразвалившемуся мосту — преодолевали Леску, нашу «домашнюю» речку, на которой мы учились плавать, ловили корзинами для картофеля пескарей и сгорали на солнце до черноты головешек. А вот на Курмосе случалось нам и разуваться и даже штаны снимать. Поверху льдины плывут, внизу лед, снег, вода, соответственно, ледяная, а ты идешь. Ступаешь медленно, осторожно, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму и не искупаться невзначай раньше времени. Никто из нас, помнится, никогда не болел.
Школьная та, луговая и лесная, дорога на Палех существует теперь только в нашей памяти — «отменил» ее кружной большак, доступный всем современным видам транспорта, да еще мелиораторы, спрямив нашу Леску, превратив ее в заиленную прямоточную канаву, непреодолимую для пешеходов. Память сохранила каждый изгиб, каждый поворот той дороги, или «тропы», как мы называли ее в отличие от другого пути, который несколько отклонялся от нее и поддерживался как «запасной» на время распутицы и половодья. Закрыв глаза, я без труда представил себе, как она, взяв разбег в Сурковом прогоне, посуху мимо кузницы спускается в луг, без особого труда преодолевает несколько застойных канав и осторожно углубляется в лес, который — видимо, потому, что страшного в нем ничего нет, — именуется Трусовым. Он совсем здесь неширок — метров двести-триста, и тропа легко, как иголка неплотную ткань, прошивает его, и сразу же за ним открывается широкая долина неширокой нашей Лески, и все мы знали тогда, что впадает она в Тешку, Тешка — в Люлех, Люлех — в Тезу, Теза — в Клязьму, Клязьма — в Оку, ну а Ока, само собой, в Волгу. Мысленно продолжая путь, я углубляюсь в густой еловый бор за Леской, преодолеваю давно уже умершую, превратившуюся в болотину речку Шерстниху, с некоторым суеверным почтением миную еловый Темный лес, веселею душой в сменяющем его без всякого перехода молодом березняке, перехожу по двум перекинутым с берега на берег жердочкам Курмосу, петляю за ней по болотистому лугу, заросшему кочкарником, оставляю позади березовый перелесок и выхожу к деревне Сергеево, единственной на нашем пути в Палех. Эта та самая деревня, которую упоминает Чехов в письме Кондакову, археологу и историку искусства, приславшему Антону Павловичу в Ялту свою книгу о современном положении русской народной иконописи. Чехов прочел ее с большим интересом, а когда сообщил ее содержание матери, уроженке наших мест, та оживилась и стала вспоминать о Палехе и Сергееве, в которых она бывала у своих родственников-иконописцев. Те, что в Сергееве, по рассказам Евгении Яковлевны, жили в громадном двухэтажном доме с мезонином. Дом и тогда уже, в середине прошлого века, был старым и до нашего времени не сохранился.
Чехов, а вернее его мать, немного ошиблись в расстоянии: между Палехом и Сергеевом трех верст, пожалуй, не будет. Этот отрезок пути был самым легким для нас: большую часть его тропа шла посуху.
Палех, надо сказать, был для нас не столько знаменитым селом-академией, сколько просто районным центром, в котором находились все положенные ему учреждения, а также семилетняя и средняя школы, слившиеся потом в одну десятилетку, базар, строчевышивальная артель, так что тропой пользовались практически все жители деревни от мала до велика. Когда мне довелось в последний раз пройтись по ней? Припомнить это, как ни старался, я не смог. Тропа на Палех ушла из деревенского обихода как-то незаметно, как уходят из жизни скромные престарелые люди, труженики по своей земной сути…
Собираясь в лес, я никогда не беру с собой часов: привык уходить из него не по времени, а когда он отпустит меня сам. Время же можно определять и по солнцу. Примерившись к нему, я понял, что дело движется к полудню, и заставил себя подняться, хотя ничто меня вроде бы не торопило.
Вдоль оврага я вышел на дорогу и повернул к деревне. Смущала меня несколько пустая корзина, и чтобы хоть как-то заполнить, прикрыть ее пустоту, я нарвал большой букет васильков, в изобилии росших в пшенице с края поля. Из всех ведущих из деревни направлений я больше всего люблю это — северное. Сторона здесь возвышенная, полевая, светлая, словно горница. Далеко отсюда видно окрест. С южной стороны проглядывает сквозь синюю дымку Палех, обозначенный узкой своей, стремительной колокольней. Чуть правее видна другая колокольня, красновская. Еще правее выглядывает из-за леса верхушками крыш деревня Крутцы. Много воздуха — воля, простор, свобода. И так отрадны они взгляду, так истомилась по ним душа в тесных коридорах городских улиц, что и не ушел бы отсюда никогда.
Интервал:
Закладка: