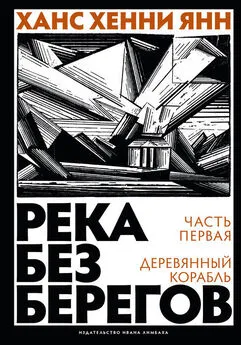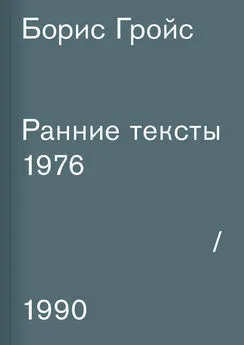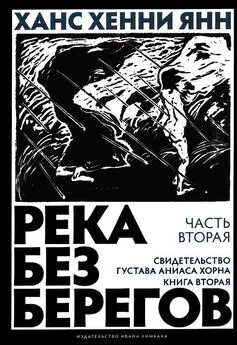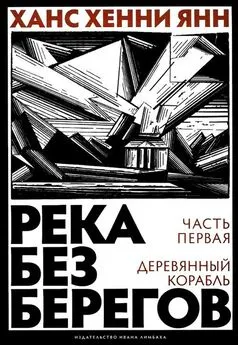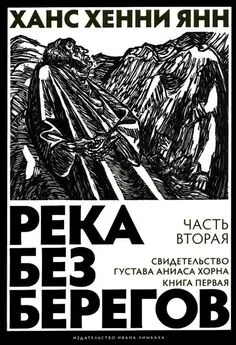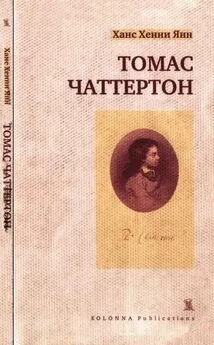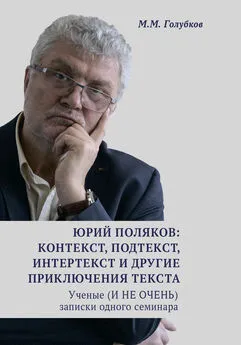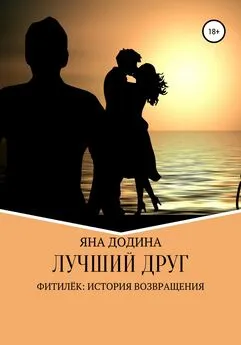Ханс Хенни Янн - Угрино и Инграбания и другие ранние тексты
- Название:Угрино и Инграбания и другие ранние тексты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханс Хенни Янн - Угрино и Инграбания и другие ранние тексты краткое содержание
Угрино и Инграбания и другие ранние тексты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Попытки создать общину единомышленников, вдохновляемых идеями, близкими тем, что выражены в «Анне Вольтер», описаны Янном во фрагменте романа «Смерть это вечная жизнь» (1909, см. Приложение), в не опубликованных при жизни пьесах «Революция» [31] Опубликована не полностью, см. Frühe Schriften , S. 1383-1394.
(1911), «Хаймо» [32] Опубликован только пересказ, см. Frühe Schriften , S. 1396-1398.
(1912), «Стена» (1915), а также в последней пьесе «Руины совести» (1959) и в романах «Перрудья» (1929) и «Эпилог» (незаконченная третья часть трилогии «Река без берегов»). Действие пьесы «Стена» отчасти развертывается в замке, который описан так: «Мы живем совершенно в стороне от других на покинутом острове. На нем высится замок. Там мы и живем. Замок называется Угрино, он имеет надежные стены, крепкие арки и стоит на море» ( Frühe Schriften , S. 742).
Три стретты: «Сидерическая поэзия», «Алхимическая драма», пролог к «Перрудье»
Теоретические статьи, которые публиковал Янн, можно воспринимать как стретты , ибо они в сгущенном виде излагают его представления об искусстве.
То, о чем так пространно говорится во фрагменте «Угрино и Инграбания» (выполняющем задачу, сформулированную в «Прологе», - рассказать о человеке-творце), в «Глоссе о сидерической основе поэзии...» сводится к внятной формуле (стр. 295, 297):
Большие поэты пытаются вернуть речи магическое значение. Они сгущают смысл, создают для него связи с окружающим миром, с Универсумом, с прошлым и будущим. Помимо простого словесного сообщения появляется некое отображение в вечности. <...> Подобно тому, как статуи египетских богов вечны на своих тронах, так же вечны и символы человеческих мнений, которые, даже став словами, продолжают связывать живых с умершими.
Поэт, согласно Янну, ужасается существованию смерти и боли, кто бы - и за какие подлинные или мнимые провинности - ни страдал от нее («Первый же крик, донесшийся с пыточной скамьи, заставил завесу в храме раздраться надвое», стр. 299). Поэт «ищет смысл в миллионократной отверженности тех, кто подвластен временному потоку, и проявляет к ним сострадание». Такую «вне-партийность» мало кто из обычных людей готов поддержать, поэтому «лучшие поэты», как правило, «не привлекают к себе внимания» или даже «становятся мучениками» (стр. 300, 296).
Статья «Алхимия современной драмы» рассматривает ту же проблему искусства в контексте новейшей экономической и политической истории.
Но начинается она (стр. 305) с постулатов экспрессионизма (изложенных, например, в процитированной выше статье Шрейера):
Весна зеленеет и благоухает. Мы это чувствуем. Значит, мы еще живы. Еще являемся частью мироздания . Мы не хотим этого забывать.
Нет такой правды, которая не была бы многим обязана восторгу. <...>
Позволю себе маленькое отступление: сегодняшний прогресс - это не прогресс в сфере духа, не прогресс в смысле большей полноты чувственного восприятия цветущей жизни, а прогресс, достигнутый благодаря хитроумным машинам.
«Единственным подлинным достижением» человеческой расы Янн считает изобретение любви (стр. 307), а «единственным устойчивым ощущением человеческой общности» - «ощущение приятия сотворенного мира даже в его заблуждениях» (стр. 309). Отсюда вытекает очень впечатляющая критика коммунистической идеологии: по Янну, роковая ошибка коммунизма заключается в том, что для приверженцев этой идеологии «приватные чувства человека [а следовательно, и любовь. - Т.Б.] не важны»: «Это утверждение, превращенное в догму, вообще не совместимо с законами жизни ».
Поэт, полагает Янн, и сегодня остается «вестником неведомого Бога» (стр. 309-310):
Ибо в чем же заключается миссия творческих людей? В том, чтобы неправильно понимать современность! Они окунают ее в волшебство, которого сама она лишена. Они начинают формировать прозу, которую отделяют от современности целые вечности. Они создают фантастическое царство и изо всех сил стараются доказать: это, дескать, и есть современная реальность.
Поэтому они умеют растворить историю человечества, привнести в наше настоящее нечто такое, что существовало тысячу лет назад, и оно будет для нас как случившееся вчера .
Третья «стретта» не похожа на две предыдущие. Это пролог к «Перрудье» - краткое изложение содержания романа.
Дерзкий замысел Янна сводится к тому, чтобы создать образ, который «может в каком-то смысле служить зеркальным отражением человечества», более того: который воплощает в себе «новый человеческий тип, пока абсолютно не известный» (стр. 393, 390). Персонаж, выбранный Янном, слаб (стр. 392-393):
От этого угрожающего нарастания слабости он так же мало будет способен спастись, как от течения времени... Пока не позволит себе упасть, погрузиться в море безответственности; и не разрушит в своем падении всю созданную людьми конструкцию взаимно обусловленных решений. Он уподобится животному, которое, не по своей вине виноватое, претерпевает все искушения и сны бытия, всецело предается им. А потом о них забывает. (Человек, который по истечении двадцати четырех часов утрачивает воспоминания о своем прошлом.)
Однако именно поэтому он «не захочет обременять себя большими заботами ради каких бы то ни было целей - кроме тех, к которым будет его направлять собственная животворная кровь» (стр. 393). Кроме того, ему свойственна «воля к безусловной самоотдаче» (стр. 389), он смутно догадывается о том, что «сострадание есть первая - предварительная - ступень к великому единству человечества» (стр. 394).
Автор - Янн - не скрывает, что ставит над этой фигурой эксперимент. О происхождении Перрудьи не будет сообщено ничего: «Он впервые оказывается перед нами, достигнув того возраста, когда его бытие уже обнаруживает все признаки юношеского совершенства...» (стр. 392).
Он помещается в идеальные лабораторные условия: «...на нем исполнилось древнее речение: он мог кормиться, как полевые лилии...» (стр. 393).
Наконец, автор приуготовил ему раннюю смерть (стр. 393-394):
Он был призван к тому, чтобы совершить движение по некоей траектории и разбиться вдребезги в момент кульминации (как если бы был героем).
Интересно, что впервые этот замысел излагается в норвежском дневнике Янна (записи от 23, 24 и 29 сентября 1915 года). Там только еще подлежащая написанию история озаглавлена так: «...история о человеке, который был великим, однако величие это было настолько человечным, что его хватило бы и для Бога» (стр. 349).
Тогда Янн еще собирался рассказать о детстве этого человека, и обстоятельства детства связывают данного персонажа с Петром, сыном Марии из «Истории того, кого люди, чтобы доказать свою правоту, прибили к кресту, или затащили на плаху, или, кастрировав и ослепив, бросили в темницу» (Отрывки из дневников, стр. 350, 352, 354):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: