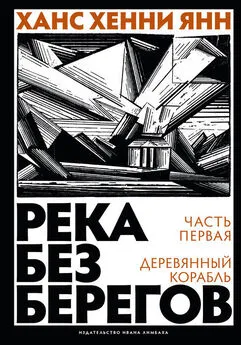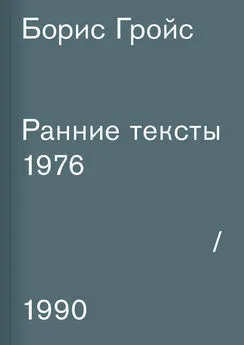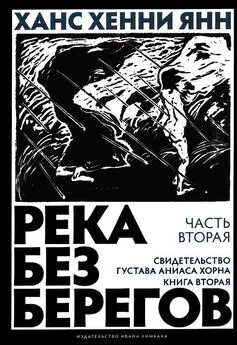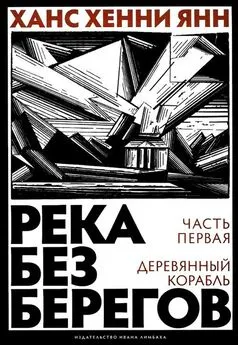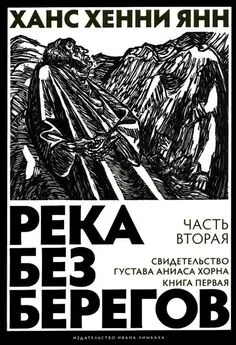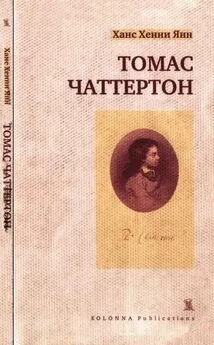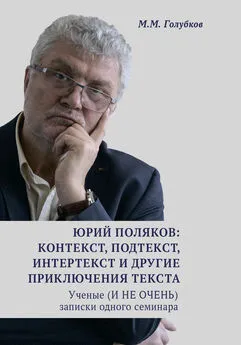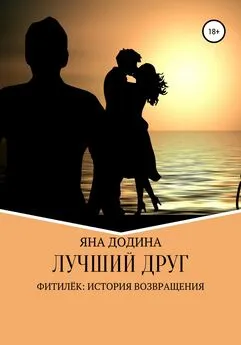Ханс Хенни Янн - Угрино и Инграбания и другие ранние тексты
- Название:Угрино и Инграбания и другие ранние тексты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханс Хенни Янн - Угрино и Инграбания и другие ранние тексты краткое содержание
Угрино и Инграбания и другие ранние тексты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ибо что еще оставалось - раз уж к нему не обратили даже минимальной доли любви, - что еще оставалось, кроме как созревать самому <...>.
Он знал, что люди не могут полагаться ни на Бога, ни на что-то иное, и думал, что в таком случае должна прийти любовь и делать свою работу. Он отправился странствовать и повсюду искал людей, для которых хотел стать Богом. <...>
Разразилась война, начались бедственные ночи, которые все мы - вместе - переживали. И тогда стали приходить те другие молодые люди, которым он должен был помочь. И он помогал. Он делал то, что прежде никогда не делалось. Он помогал им в их жизни, он отдавал себя без остатка. Но я еще не сказал самого существенного. Он погибал от усталости, он думал, он помогал, он кричал, он молился - чтобы их жизнь могла осуществиться полностью. Но я еще не сказал самого существенного. От него исходила такая любовь, какую мы привыкли приписывать только Богу. Существенное все же не дает себя ухватить. Да и кто мог бы обозначить, в чем состоит существенное безмерной самоотверженности? В этом человеке все было самоотверженностью, той самоотверженностью, которую обычно не понимают и которая поэтому сделала его одиноким.
В этом отрывке описываемый персонаж носит имя Лора, то есть, возможно, прототипом для него отчасти послужил носивший такое прозвище Юргенсен. (Лора - сокращение от имени арабского происхождения Элеонора, означающего: «Бог - мой свет».)
Перрудья в романе будет слабым, но способным к любви-состраданию человеком и поэтом [33] Об этих его качествах см. мою статью «Кто такой мистер Григг?» в: Циркуль , стр. 150-163.
. Этот идеальный образ впитает в себя черты многих персонажей ранних текстов Янна: новорожденного мальчика, судьба которого предрекается в драме «Генрих Клейст», и маленького Петра из «романа о Христе»; Петера из драмы «Той книги первый и последний лист» и принца Петера из комедии «Ты и я»; беззаветно любящего свою сестру Хельмута из «Анны Вольтер» и усыновленного им - рожденного Анной - мальчика по имени Рука, сына Петерсена; средневекового мастера Янна из Ростока (драма «Ученики»); одного из сыновей Забывчивого из «Угрино и Инграбании» (сына, во многом похожего на отца) и даже, возможно, - того обломка скалы, который Забывчивый бросил в воду по пути к острову Угрино (стр. 123). Перрудья как бы станет для Янна «отображением <... > [его] души из какого-то иного мира» (стр. 269), воплощением себя-лучшего - подобием тех ангелов-хранителей, с которыми беседуют герои последнего янновского романа «Это настигнет каждого» [34] См. о них мою вступительную статью в: Это настигнет каждого , стр. 9-11.
.
Продолжение проблематики ранних текстов Янна в «Реке без берегов» и поздних статьях
Самый известный роман Янна - трилогия «Река без берегов» (1949-1950), - как ни странно, до сих пор не был последовательно прочтен, то есть проанализирован как целостная структура, как следующее определенной логике переплетение мотивов. Первая попытка такого рода - двухтомное исследование Нанны Хуке («Порядок Нижнего мира. Об отношениях между автором, текстом и читателем на примере “Реки без берегов” [35] Нанна Хуке анализирует только первую и вторую части трилогии, считая их композиционно завершенным произведением; работа над третьей частью, «Эпилогом», по ее мнению, была прервана Янном сознательно.
Ханса Хенни Янна и интерпретаций ее толкователей», Констанц, 2009) - очень много дала для понимания символической структуры книги, связи этой структуры с представлениями Янна о гармонике [36] Здесь - учение о математико-музыкальных принципах, лежащих в основе мироздания и устройства человеческой души. Это учение разрабатывали философы и математики античности (Архимед, Пифагор, Платон и др.), философы средневековой и ренессансной Европы (например, Кеплер, Галилей и Коперник), а в новейшее время оно было возрождено немецким музыковедом и теоретиком искусства Хансом Кайзером (Hans Kayser, 1891-1964).
, для понимания персонажей как воображаемых двойников автора; однако главный вывод - что «Записки Густава Аниаса Хорна» (вторая часть трилогии) представляют собой фантазии серийного убийцы, современного Жиля де Рэ, Синей Бороды, - кажется мне неприемлемым. Толчком для рассуждений на эту тему послужило, очевидно, подробное изложение Густавом истории Жиля де Рэ в последней части романа ( Niederschrift II , S. 295-303). Однако Густав вовсе не отождествляет себя со средневековым убийцей (см. там же , стр. 300):
Я твердо уверен, что никогда - ни на радость дьяволу, ни чтобы самому получить сладострастное удовольствие (у меня и в мыслях такого нет) не смог бы убить мальчика. А значит, я отношусь к этому преступлению почти беспристрастно. Я только хочу, поскольку прежде выразился неумело, найти слова, чтобы справедливо распределить ответственность и вину. Кто убивает мальчиков, не может надеяться, что будет оправдан. Этого не ждал и Жиль де Рэ. Он сам называл себя хищным зверем. Но разве пыточные подмастерья и палачи, которые по долгу службы ежедневно терзали плоть виновных и невиновных, растягивали людей на дыбе, накачивали их холодной водой или варили на медленном огне, не были зверьми еще большими? <...> То было время Столетней войны. Ни одна женщина не попадала в могилу, не будучи прежде изнасилованной. Потоки крови и чума... Разве никто не несет вину за то, что была эта Столетняя война, а после - Тридцатилетняя, а после войны возобновлялись через каждые двадцать пять лет? Разве жажда власти - не вина? И ложная история - не вина? И невежество народа - не вина? Разве невежество всех людей - не вина? И слепая вера - не вина? Распространять голод и чуму - это не вина? Если никто не несет за это вину - если такова воля Божья, - значит, по воле Божьей появляются и убийцы.
Для чего в романе вообще упоминается эта история, можно понять, прочитав статью Янна «Позднеготический поворот» (Spätgotische Umkehr), опубликованную в журнале «Круг» еще в 1927 году. Там период расцвета готики (XV век) характеризуется Янном так ( Werke und Tagebücher 7, S. 345):
Суровая, фанатичная вера врастала в жизнь. Такая духовность сковывала, и в повседневность вторгалась тьма. Мученичество, вина', нагота - их будто открыли только теперь; мужчину и женщину разобщили в их скверне: человека отлучили от человека. <...> Мужчине и женщине пришлось стать чужими друг другу, научиться друг друга ненавидеть, стоять друг перед другом без посредующей инстанции. Одному человеку предстояло стать господином, другому - слугой. И расщепленными оказались все живые, расщепленными - мертвые. Расщепленными на «добродетельных» и «порочных», на «проклятых» и «заслуживающих спасения». На «животную» и «благочестивую» части, на тело и душу, на кровь и дух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: