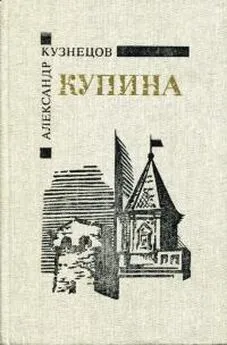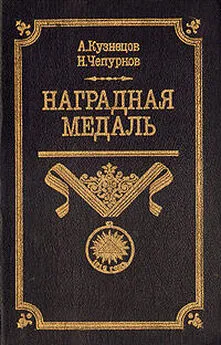Александр Кузнецов - Купина
- Название:Купина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кузнецов - Купина краткое содержание
Герой повести «Внизу — Сванетия» — заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Михаил Хергиани. Рассказ об этом удивительном человеке органически входит в контекст повествования о сванах — их быте, нравах, обычаях, истории и культуре.
В повести «Измайловский остров» исторический материал переплетается с реалиями современной жизни. Перед глазами читателя встают заповедные уголки старой Москвы, выявляется современный смысл давних и недавних исторических событий, духовных и культурных ценностей далекого прошлого.
Купина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Радостным перезвоном колоколов сопровождались народные празднества. Колокольный звон деревенских церквей указывал дорогу путникам во время сильных снежных бурь, для чего в России существовал специальный указ. Где только не применялся колокол — и на маяках, и на кораблях, и на пожарных каланчах. Во многих областях южной и западной России существовали «вестовые» колокола, при помощи которых важные известия передавались эстафетой на сотни и тысячи верст. При помощи густого колокольного звона пытались даже разгонять грозовые облака.
Вечевой колокол каждого города символизировал в какой-то степени лицо города и его свободу. В истории известны случаи, когда покоренный город лишался своего вечевого колокола. 14 декабря 1477 года новгородцы сдались князю Ивану Васильевичу и 5 марта вслед за въезжающим в Москву великим князем везли вечевой колокол Новгорода, который подняли на одну из колоколен Кремля. Такая же участь постигла и вечевой колокол Пскова, уничтоженный в 1509 году при великом князе Василии III. Иногда колокола отправлялись в ссылку. Так, набатный колокол Углича, возвестивший об убийстве царевича Дмитрия, был сослан Борисом Годуновым в Тобольск. Даже Екатерина II выместила свой гнев на набатном колоколе Московского Кремля, приказав вырвать ему язык за то, что он оповестил жителей Москвы о начавшемся бунте в 1771 году.
Русский колокол имел свою отличимую форму и ряд неповторимых признаков. Различают три типа колоколов: русский, западноевропейский и китайский. У русского поперечник основания равен высоте с «ушами», составляющими, в свою очередь, седьмую часть высоты и изготовляющимися, в зависимости от величины колокола, с двумя или с четырьмя отверстиями. Поперечник верхнего пояса в том месте, где начинаются надписи или украшения, составляет около двух третей поперечника в краях. Колокола таких пропорций, при правильной толщине боков, звонки и издают не резкий, зато очень продолжительный звук.
У западноевропейских колоколов поперечник основания больше, чем у русских, а высота меньше — около 7/ 8основания. «Уши» у них в виде кольца, чтобы удобнее было раскачивать. Звук же получается резче, сильнее, но заметно короче.
Китайские колокола, индийские, японские и колокола всей юго-восточной Азии отличаются чрезмерной сжатостью снизу, так что размер поперечника намного меньше высоты. Они некрасивы, и звук у них глухой и непродолжительный. Я пробовал звонить в такие колокольчики в буддийских храмах Вьетнама и Кампучии. Звук настолько глухой и невыразительный, словно держишь колокольчик не за ушко, а обхватив ладонью сам корпус. Для нас это просто дико и непонятно, зачем тогда вообще нужен такой колокол, если нет звона.
Отливались на Руси колокола во все века из меди и олова. На Западе же первые колокола изготавливались из железа, гнулись и клепались железные листы.
Поскольку измайловское хозяйство быстро пришло в упадок, отливка колоколов здесь прекратилась. Но можно предположить, что для Покровского собора, для церкви Иосафа Царевича и для звонниц Государева двора они отливались здесь же, в Измайлове.
Ударил колокол, низкий гул прошел по всему острову и поплыл в село Измайлово. В солнечной комнате с высокими сводчатыми потолками, где в два ряда стояли кровати, зашевелились, стали не спеша одеваться. Люди все немолодые, усы и бакенбарды седые, движения неторопливые. У каждого позади двадцать пять лет службы, спешить некуда.
Кто в нижней рубахе, кто голым по пояс шли умываться, потом — в цейхгауз, находившийся в конце коридора в одной из комнат. Здесь у каждого свое отделение в гардеробе, в нем висит одежда и стоит сундучок. Кроме общей формы и рабочей робы, тут хранились и мундиры самых разных родов войск и полков — красные и светло-зеленые гусарские, синие уланские и казацкие, белые кирасирские… Полагались по большим праздникам.
Вновь зазвонил колокол на Мостовой башне, и бывшие солдаты потянулись в храм Покрова к заутрене. Шли вольно, без строя. Выйдя из казармы, останавливались перекинуться словечком. Одеты в полотняные рубахи и такие же шаровары, заправленные в сапоги. На головах фуражки с цветными околышками, а у гвардейцев фуражки без козырьков. Цвет околышков и погонов зависел от того, в каком роде войск служили. Были красные, синие, темно-зеленые…
У многих на рубахах блестел серебряный крест на георгиевской ленте — знак отличия Военного ордена святого Георгия. Часто встречался и круглый серебряной знак с красным крестом — знак отличия ордена святой Анны. Он давался солдатам и унтер-офицерам за двадцать лет беспорочной службы. Левее этих наград на груди у ветеранов можно было видеть медали «За персидскую войну», «За турецкую войну», «За оборону Севастополя» и медали кавказские. В толпе ветеранов, направлявшихся в церковь, изредка виднелись черные и белые платки женщин: из Семейного корпуса шли инвалиды со своими женами.
Подходя к ступенькам крыльца, снимали фуражки, крестились. Перед высокими дверями собора, с отведенными в стороны чугунными решетками, вытирали ноги о положенные здесь выстиранные мешки, вновь осеняли себя крестным знамением и по красной ковровой дорожке проходили в церковь. У каждой роты свое место, свой неочерченный квадрат на шахматном полу, тут и отстаивали службу.
В офицерской столовой за большим, покрытым белой скатертью столом завтракали офицеры. Во главе стола — высокий и сутуловатый подполковник с белым крестиком ордена святого Георгия на груди, заместитель начальника богадельни. На стене за его спиной большой портрет императора Николая I. Царь изображен во весь рост. Белоснежные лосины туго стягивают выпирающее брюшко.
Огромный буфет, угловой диван с мягким сиденьем и овальным столиком на одной ножке перед ним, мягкие кресла и стулья с высокими спинками у обеденного стола создавали атмосферу уютной домашности. Немало способствовала тому и большая, свисающая с потолка на цепи керосиновая лампа узорчатого бронзового литья.
— Думаю, господа, заказать себе крест Владимира с мечами, — говорил, орудуя вилкой из «польского серебра» штабс-капитан Михайлов, тучный пехотный офицер небольшого роста.
— Если не ошибаюсь, Павел Иванович, — отвечал ему после всеобщего непродолжительного молчания уланский ротмистр Петрушов, — вы получили Владимира до пятьдесят пятого года?
— Перед самым указом.
— Тогда вам положен без мечей, — проговорил ротмистр, принимая тарелку со щами у одетого в белую куртку солдата.
— Мало ли что… А я закажу.
Большинство этих людей давно уже утратило всякое тщеславие, желание выделиться, отличиться. Познав войну, жестокость и несправедливость, они спокойно доживали свою жизнь, не мечтая о богатстве и славе. Михайлов же не оставлял надежд и часто досаждал товарищам рассказами о том, как играл в карты с адмиралом Истоминым и танцевал на балах у губернаторов, похвалялся своими боевыми подвигами и высокими связями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: