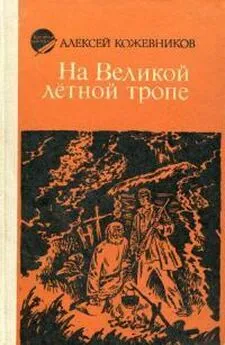Алексей Кожевников - На Великой лётной тропе
- Название:На Великой лётной тропе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Башкирское книжное издательство
- Год:1987
- Город:Уфа
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Кожевников - На Великой лётной тропе краткое содержание
В романе «На Великой лётной тропе» рассказывается о людях заводского Урала в период между двумя революциями — 1905 и 1917 годов, автор показывает неукротимый бунтарский дух и свободолюбие уральских рабочих.
На Великой лётной тропе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Потом начали строить по Уралу заводы, а деревни приписывать к ним. Моего деда со всем его выводком приписали к заводам Болдышева, попал в крепостные и мой отец Егор, и все мы, кои и не рожденные о ту пору были.
Побежал народ с Урала, от золота и руд, потому обернулось ему это золото слезками. Побежали к тем же башкирам, в сибирскую тайгу, да нелегко было убежать. Охотились за беглецами солдаты, и не как-нибудь, а с ружьями и собаками.
Задумал убежать и дед мой. Сделал он телегу, купил у башкира пару коней, посадил в телегу детишек, жену и темной ночью выехал. Ночами только и ехал, а днем укрывался по лесам да по оврагам. Выбрался он из Болдышевской дачи и хотел уж благодарить бога за спасение, да рано благодарить было. Наткнулись на него охотники, гонявшие по чащам кабана, и задержали. Пришлось деду с конвоем вернуться к Болдышеву, а там его в плети и от домны в рудник, на подземную работу.
— Как же свобода-то в 1861 году?
— От свободки этой мы только горя хлебнули. Сам я тех лет не помню, был всего-навсего с кукиш, а другие помнят. К тому времени на Урал набралось много народу: кто сам пришел, кого силой привели, в цепях и под охраной, плодился тоже народ, — и не хватало всем постоянной работы по заводам. Одни бессменно стояли у станков, а другие по мере надобности то дрова рубили, то уголь жгли. Тянулся народишко, переваливался из кулька в рогожку. Как вышла грамотка о воле, поделили нас на два стада — мастеровых и сельских работников, мужиков то есть.
Мастеровые, значит, на заводе работу имеют, и землицы им полагалось только под домишко да покосцу с ладошку, а мужикам, кои к заводу касанье малое имели, и покосу больше, и пахоту, и лесные угодья. Все это хорошо, да испугались заводчики, что уйдут от них дешевые руки, земли с лесами пожалели и записали всех в мастеровые. Мужиков на Урале не оказалось, и каждый получил землишки — кафтаном всю прикроешь.
Поднялся гул по заводам: «Земли! Лесу!» — «Вам не полагается», — в ответ им. «Не полагается — на работу ставь!» — «У нас рабочих рук довольно».
За оружие народ брался, да не нашлось в то время Пугача, и дела не получилось. А мастеровщине плату сбавили.
«С какой стати, по какому праву?» — кричит мастеровщина. «А потому, что волю вам дали, будьте волей довольны». И смеются. «Не станем работать!» — «Не надо. Из деревень по дешевке наберем. Пойдут и благодарить будут».
Пришлось мастеровым замолчать. Заводчикам и этого мало показалось, решили они от воли одно слово оставить. Нажали они на Петербург, и выпустил он дополнительную грамотку, по которой выходило, что можем мы пользоваться одной травкой, а будь на покосе нашем, на дворе, в подполье какой-нибудь металл, камень ценный, глина добротная, это все заводчиков. Может он выгнать тебя, кувырнуть домишко твой, и на месте подполья сделать шахту.
И, бывало, сгоняли, домишки рушили. Найдет человек в подполье золото — и мыть его втихомолку. Прознает заводчик, начальство — и: «Чего в подполье делал?» — «Яму рыл, кадки с капустой ставить». — «Взять пробу».
Сделают ее, обнаружат золото — и гнать из дому человека, а то в каторгу, в Сибирь. «Хищничаешь! Завод обкрадываешь!»
На дворе, на покосе своем лесину нельзя вырубить, денежку плати. Не угоден человек заводчику — заморозит, не даст дров.
— И это теперь так же?
— По сей день. Я ужо сказывал, как морозили почтаря. Целую зиму ко мне ходил обогреваться. И дровишек дать ему нельзя: узнают — самого заморозят.
— Почтарь, кажется, за вас?
— За нас. С опаской, с осторожностью, но за нас. Ты думаешь, люб ему управляющий после того, как почтарь у него пол под ногами лизал? Нечего далеко ходить, у меня на покосе озерко имеется, а за рыбку каждогодно оброк плачу. Есть у нас коровенки, а водопою нету, заводской он. Не уплати оброк, не дадут коровенке напиться, уморят.
— Да здесь же везде вода! — удивилась Ирина. — Сколько ее попусту течет!
— Течет, а не наша, купить ее надо. Вот как такое сделали, пошел народ в суды, к губернаторам, в Петербург правду искать. Собирали мы деньги, последние слезки вкладывали и писали прошенья, ходоков посылали. Прошенья-то наши и посейчас валяются у начальства на полках, нет им движенья. Сказывают, что губернатор один собирал гостей, устраивал пирушки и прошениями нашими топил камин. Возили ему из канцелярий возами. А ходоков выслеживали по тропам, хватали — и в Сибирь. Много наших ходоков изгибло неведомо как и где, не осталось от них ни слуху ни духу.
Потянулся народ в переселенье, рад был уйти с золотого Урала в пески, в камень, в лесную дичь, — и тут стали ему поперек дороги. Нашли указы, раскопали законы, по которым выходило, что переселяться мы не можем, а должны сидеть на одном месте.
Где нашему брату взять денежку, когда рвут ее туда и сюда! Аренду за покосную десятину — семь рублей в год, выгони овцу — плати полтину золота, выгони коровенку — плати рубль.
У меня усадьба десять сажен по улице и тридцать сажен в глубину, и выплачиваю я за нее по пятнадцати рубликов в год, а всего со свободушки за пятьдесят лет переплатила наша семейка семьсот пятьдесят целковых, а землица все не наша.
Без копейки не выруби ветки, веника не наломай, а копеечек дают нам в обрез. И стали мы тайком лесишко валить, сено косить на дальних полянах, рыбешку промышлять по глухим озерам. Кого поймают — в суд, сено отнимут, рыбешку вытряхнут, присудят штраф и судебные расходы, нагрохают такую цифру, что рабочему в год не отработать. Не уплатит — придут с описью имущества и пустят его с торгов. На иного накатит такая злоба, что встретит он законников ружьишком, уложит одного, другого, а сам в тюрьму, на каторгу. Сибирь-то ведь наполовину нашим уральским опальным людом заселена, бритая она, бубновая. Пробовали мы в пятом году сочинить бунт, а царские власти двинулись на нас с войском, с плетками покорять свой родной народушко и взяли в полон, навязали ему иго хуже татарского.
В Петербурге что-то зашевелилось, знать, дошли прошенья наши, не все сгорели, да не верю я, не жду добра. Друзей у нас мало, а лихоимцев и предателей — омута.
Наступал вечер, а с ним холод, ветер. Народ растекался по домам, пошел к дому и Прохор.
— Ты к нам, Арина? — спросил он.
— Думаю зайти. Можно?
— Зайди, доскажу еще немножко. Всего рассказать нельзя, забылось уж многое, по канцеляриям погибло и сгорело в каминах.
— Долго ли так будет? — спросила она.
— Не знаю, Аринушка, думаю, что недолго, близок конец.
Ирину сильно встревожил интерес Прохора к Изумрудному озеру, к мятежнику Юшке Соловью и к тому, не родственница ли она судье Гордееву. Ее не оставляли самые страшные предположения: все обнаружилось, начальство выгнало ее с завода за связь с мятежниками, а рабочие выгнали из своей среды за предательство, нет ей ни работы, ни приюта. Она скитается, как бездомная собака, которую все гонят. Господи, как тяжело быть грешницей, преступницей!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: