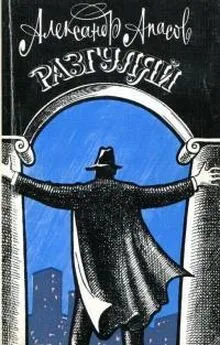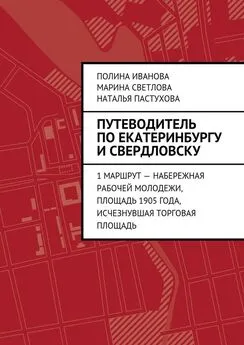Вениамин Додин - Площадь Разгуляй
- Название:Площадь Разгуляй
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Площадь Разгуляй краткое содержание
срубленном им зимовье у тихой таёжной речки Ишимба, «навечно»
сосланный в Енисейскую тайгу после многих лет каторги. Когда обрёл
наконец величайшее счастье спокойной счастливой жизни вдвоём со своим
четвероногим другом Волчиною. В книге он рассказал о кратеньком
младенчестве с родителями, братом и добрыми людьми, о тюремном детстве
и о жалком существовании в нём. Об издевательствах взрослых и вовсе не
детских бедах казалось бы благополучного Латышского Детдома. О
постоянном ожидании беды и гибели. О ночных исчезновениях сверстников
своих - детей погибших офицеров Русской и Белой армий, участников
Мировой и Гражданской войн и первых жертв Беспримерного
большевистского Террора 1918-1926 гг. в России. Рассказал о давно без
вести пропавших товарищах своих – сиротах, отпрысках уничтоженных
дворянских родов и интеллигентских семей.
Площадь Разгуляй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многие, очень многие годы спустя, на камерной выставке в Эрмитаже, мои друзья подвели меня к полотнам французских импрессионистов из галерей Парижа. Я увидел рамы на них!..
Память мгновенно перенесла меня в Мстиславль 1937 года.
Они!.. Нет, оказалось, не они. Эти исполнены были дедом моим в конце восьмидесятых годов XIX века. Бронзовые листочки с его именем и годом работы врезаны были в увядшие листья одной из ветвей венка–рамы. Венок был тот же, что и на деталях крыльца дедова дома. Только здесь, в зале музея, дерево, «увянув», покрылось седым, пепельным серебром — как задумал и как приказал ему мой дед. И как он же приказал и задумал, листья и ветви венка «поражены» были древоточцем… «Так могут только их величество природа и он, мастер». Это слова человека, привезшего в Москву экспозицию. Получалось — сместились приоритеты ценностей, как в Тауэре… Туда из Киото прибыли четыре ящика с образцами национального фарфора XII – XIV веков. Когда изделия начали раскрывать, работники музея обратили внимание на упаковку экспонатов — неизвестную Западу бумагу. Казалось, она состояла из чуть пожелтевшего молока, в котором плавали еле заметные стебли риса…
Бумага была очень плотной. Деформированная (проще – смятая, скомканная) при упаковке экспонатов, она тотчас снова становилась идеально гладкой после растяжки и сушки. Отложив в сторону многовековой фарфор, британские специалисты одели бумагу в подобающие ей рамы и выставили ее на обозрение пораженным соотечественникам. Так сами японцы по–няли цену искусства своих мастеров бумаги, сработавших ее вручную на примитивном оборудовании в своих крестьянских хозяйствах… Бумаги… Вася.
Я много читал о Кельнском соборе. Видел его наяву, восстановленным после разрушений времен войны. И услышал однажды от швейцарских своих друзей: «Чем же деревянная резьба вашего деда менее дорога человечеству, чем каменная – в Кельне?». Эти серьезные люди профессионально занимались искусством и о работах деда знали лучше кого бы то ни было.
«И почему, — спросили меня мои шведские друзья, — человечество вот уже 20 лет (это было в 1965–м) ищет панели «Янтарной комнаты», но никак не соберется поискать резные панели из дома вашего деда, снятые и увезенные немцами в 1941 году?
Разница–то между этими потерями лишь в том, что «Янтарную комнату» можно восстановить — был бы янтарь и терпение специалистов. А восстановить такую резьбу невозможно!». Шведские друзья были совершенно правы. Но не только они понимали цену дедовой резьбы. Как только экзекуция в овраге у Шамовской дороги подошла к концу, кое–кто из «другарей» дома бросился обдирать бесценные панели. Но вовремя нагрянул комендант Рихард Краузе, предупрежденный не то местными доброхотами, не то специалистами из группы антикваров-мародёров при армии. Он сам до конца присутствовал при «изъятии произведений искусства» в доме деда. Сам заказал ящики под деревянное чудо. Сам руководил упаковкой его. И сам же сопровождал крытую грузовую машину с награбленным. Потом известно стало Следственной комиссии, что через четыре дня машина прибыла в Минск, где ящики с панелями нашего мстиславльского гнезда были перегружены в железнодорожный вагон. Ничего больше никто из нас, как и наши друзья в Швейцарии и Германии, узнать не смогли…
Но это все, опять–таки, потом, потом…
А пока я живу в доме деда, воюю с Рахилью: она полагает, что время мое в Мстиславле должно распределяться между непрерывным поправлением меня многоразовыми завтраками, обедами и ужинами и отдыхом в постели. Но тетка — начальство жидкое, необязательное. А дед счастлив видеть меня весь день рядом с собой. Я — тоже. И как в детстве, мы с ним на пасеке, мы с ним и у коровы, и у птицы. Коней его давно свели со двора, как, впрочем, двух (из трех) коров, при раскулачивании.
Можно представить, как люди вокруг относились к деду, если государство, ограбив его, не отняло в 1930 году все оставшееся, в том числе его свободу и жизнь. И за это свое временное бессилие перед всеобщим уважением к нему — человеку и мастеру — таило, наращивая, пока еще только глухую ярость предвкушения крови. Но ведь кровь–то была уже пролита — кровь бабушки моей Хаи—Леи! В августовский день 1932 года ее пригласили к начальнику милиции по какому–то хозяйственному, сказали, делу. Там, старую и больную, избивали несколько часов кряду резиновыми жгутами, требуя отдать никогда у нее не ночевавшие доллары, якобы тайно присылаемые ей ее братом Цалле из Америки. И ничего не добившись, затоптали ее сапогами… Сапогами еврейскими: топтал Израиль Ривкин. Почти что сосед…
Глава 43.
Годом позже к деду приехали старые друзья, супруги Вера Игнатьевна Мухина и чудо–доктор Замков. Известная в мое время как автор двусмысленной композиции «Рабочий и колхозница», интересных памятников Горькому и Чайковскому в Москве, она, помимо всего прочего, создала воистину потрясающие своим скорбным динамизмом великолепные надгробия, равных которым ХХ век не знал. Несколько ее композиций, находящихся в Монако, на юге Франции, в Люксембурге, Новой Англии и Калифорнии, вошли в золотой фонд мировой культуры и взяты под патронаж ЮНЕСКО. Но, пожалуй, высочайшим достижением художественного гения Веры Игнатьевны стали серии рисунков и пастелей, сделанных ею на ландшафтах восточной Белоруссии. Что тянуло ее в эти Богом забытые лесные уголки? Почему выбрала она эти печальные леса на пригорках, полные неизбывной грусти серые туманы над замершими болотами? Объяснения деда, что именно эта печаль древних болотистых лесов ложится в основу ее «кладбищенских» шедевров, ничего мне не говорили. Но, возможно, он был прав. Так или иначе, но именно эта печаль была еще в 1902 году замечена Серовым. И, на беду российских коллекционеров, работы Мухиной выхватывались из–под ее рук нуворишами Америки моментально! Процесс утечки был так стремителен, что сам Валентин Александрович Серов имел в своей коллекции только те работы Мухиной, которые она успела преподнести ему сама. У деда в доме был альбом ее рисунков. В их числе два дедовых портрета, сделанных Верой Игнатьевной до Первой мировой войны.
На одном из них мой дед изображен рядом с ульем с дымокуром в руке. Мой любимый его портрет. Он тоже покоился в альбоме. Но я заставил деда одеть его рамкой и сам повесил в зале. Именно таким я запомнил навсегда моего дедушку. Знаю точно: этот портрет вместе с панелями дедовых резных зеркал и потолочных кессонов, вместе с сухим золотом мореного дуба увез комендант Мстиславля Краузе. История портрета на том не кончилась… Он у Хаммера оказался!
А в 1933 году Мухина приехала к деду с делом для нее чрезвычайно важным. Незадолго до того скончался Вячеслав Иванович Сук, почти тридцать лет дирижировавший симфоническим оркестром Большого театра, — ее друг, наставник, первая любовь. Потрясенная его смертью, она свалилась в тяжелейшей депрессии. Но сознание ее помрачено не было. Оно поддерживалось глубочайшим уважением к покойному и возникшей у нее идеей: создать памятник–надгробие, достойное великого композитора и дирижера. Важнейшей частью этого сооружения должна была стать гирлянда из ветвей хмеля, выполненная в чугуне. Вера Игнатьевна сразу же решила: эту деталь надгробия должен сделать мастер из Мстиславля — ее друг Шмуэль Додин! И она, больная, приехала к нему. Она не знала о трагедии 1932–го. Потому не смогла сразу понять перемены, происшедшей с недавно еще могучим и уверенным в себе человеком, который много лет был генератором и ее оптимизма, достаточно потраченного окружавшими ее с 1918 года насекомыми от антиформализма. Перед нею теперь был старый человек, сраженный гибелью жены. Возможно, именно в эти самые дни переживавший куда как более тяжелую депрессию. Она решила, что не имеет права обращаться к нему с собственной болью и вызывать в нем самом ее — боли — отражение… Хотя… только воспринятая боль способна создать монумент боли. Да, как художник, как женщина, она была права. Но она не знала, не могла знать некоего свойства деда: уметь знать, что она знает о том, что знает он… До бесконечности. Что позднее в моем отце, перенявшем это свойство, было квалифицировано как дьявольщина. Возможно, приезд Мухиной, ее еще не высказанная вслух идея встряхнули потерявшегося деда. Он сам начал разговор, тяжелый для них обоих. И взялся за эскизы. Примерно через год детали гирлянды были готовы. Но ни Мухина, ни ее коллеги, в особенности Константин Федорович Юон — ее учитель и наставник, — и слышать не хотели о том, чтобы такое чудо стало основой отливочных форм! Решено было расчленить детали на более мелкие, и по ним, не деформируя резьбу и не допуская потемнения березы, — именно из этого материала дед резал гирлянду, — отлить форму под чугун. Через шесть недель работа была сделана. Решено было повторить гирлянду в бронзе. Повторили. К общему конфузу, когда все детали надгробия были готовы, выяснилось: оно не вписывается в абрис участка, тесно зажатого со всех сторон старыми захоронениями…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: