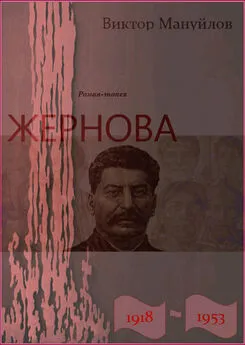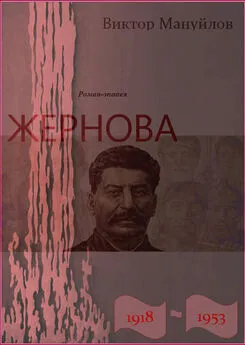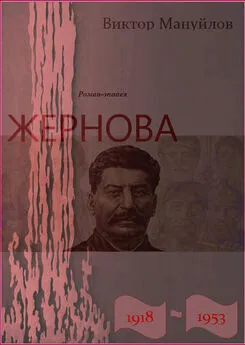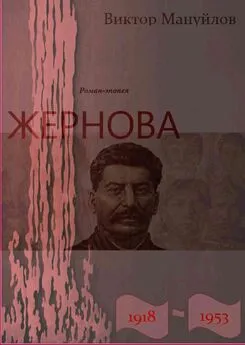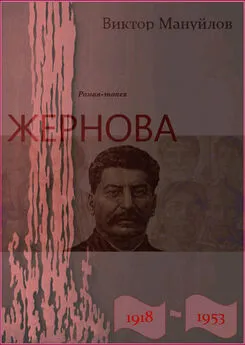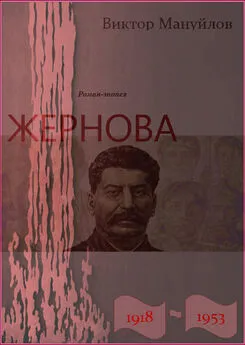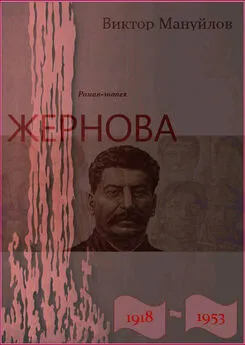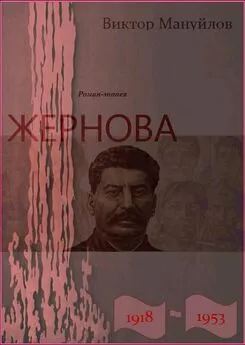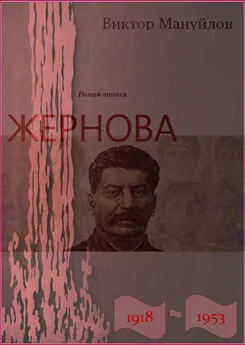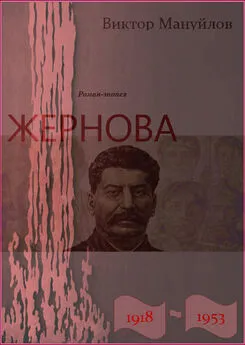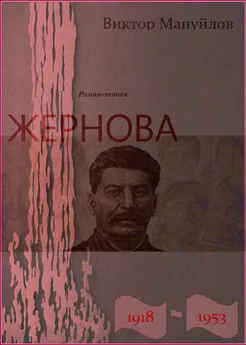Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. После урагана
- Название:Жернова. 1918–1953. После урагана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. После урагана краткое содержание
Жернова. 1918–1953. После урагана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я с ними, собственно, провел только два боя. Во втором бою, при прорыве немецкой обороны с Магнушевского плацдарма, от батальона осталось всего несколько десятков человек. Ну и — моя война на этом кончилась.
— Это что же, вроде смертников?
— Получается, что так.
— И как ты на это смотришь?
— В ту пору смотрел нормально. Хотя и было какое-то чувство… неловкости, что ли. Трусов и предателей среди них я не встретил. Не повезло людям — так я на это тогда смотрел. С одним из них до сих пор переписываюсь. Умнейший мужик. Бывший капитан второго ранга Пивоваров. Ему втройне не повезло: попал в плен, остался без ноги, семья погибла… Трудно ему сейчас приходится.
— Сейчас всем трудно приходится, — поправил Обручев и уточнил: — Почти всем. А что касается везения… Я тут, весной еще, два месяца прожил в лагере аковцев — в отряде польской Армии Крайовой. По заданию, конечно. Ну, ел с ними, пил, спал, разговоры всякие разговаривал. Народ там, конечно, всякий. Есть и такие, которым лишь бы убивать. А кого — значения не имеет. Иные как взяли в руки автомат лет в четырнадцать-пятнадцать, другого дела и не знают. Они так и говорят: здесь не получится, подадимся в Африку или в Южную Америку, войн на наш век хватит. Конченые люди. Но я не о них. Много среди аковцев людей порядочных, по-своему честных, думающих, по-человечески симпатичных. И я, живя с ними, должен был постоянно себя убеждать, что, хотя люди они хорошие, но все равно — враги, поэтому, чем лучше они как люди, тем опаснее для нашего дела, для идеи. А какое такое, спрашивается, у меня дело, какая такая идея? Если отбросить философию и все такое прочее? А такая, чтобы — в теории — сделать человечество счастливым. Не человека, а именно человечество. А что такое счастье всего человечества? Вот ты, капитан Красников, знаешь что это такое?.. Ну, чего молчишь?
— Думаю.
— Давно?
— С весны сорок пятого. Кавторанг Пивоваров тоже над этим вопросом мучится. Так что как сажусь писать ему письмо, так и начинаю ломать голову.
— Странная штука получается, капитан Красников. Вот мы с тобой оба коммунисты, следовательно, счастье наше, если по Марксу, в борьбе. Следовательно, далее: чем больше мы с тобой убьем бандитов и всяких там идейно с нами не согласных, тем выше наше счастье. А когда начинаешь копаться в своей душе — полнейший разлад. С тобой не случалось?
— Случалось, — ответил Красников. — Только… только разлад в душе не может быть плодотворен. Он неминуемо ведет к разладу с самой жизнью. А в жизни надо прибиваться к какому-то берегу. Берег этот, может, не такой обустроенный, но его обустройство зависит от нас. Пивоваров так считает, и я с ним согласен.
— Умный мужик этот твой Пивоваров… А я вот подружился у аковцев с одним парнем. Адамом Забродой… звали, — раздумчиво продолжал Обручев. — Стихи писал. Хорошие стихи, между прочим. Это я тебе говорю как несостоявшийся филолог. А главное, что в нем особенно мне нравилось, нет у него ненависти к русскому народу, как у подавляющего большинства поляков. Иных аж трясет при одном слове «русский». Эти люди все свои беды связывают с русским народом, с нацией, будто бы носительницей определенной имперской идеи. Заброда так не думал и частенько люто спорил со своими. Другого бы пристукнули, а ему прощали. Потому что любили. Поэт — что с него возьмешь… Иногда начнет читать стихи… Начнет с Мицкевича, а кончит Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. Ну а все думают, что он либо свои читает, либо кого из поляков же. Слушали, как слушают Евангелье. Молитвенно, со слезами. Да-а… У нас такого я не замечал. Может, не доводилось. Я, между прочим, от Заброды же узнал, какой это мощный был поэт — Сергей Есенин. Стыдно признаться, но мне он был почти не известен. У нас ведь как: кабацкий поэт, певец умирающей деревни. Но Есенина Заброда прилюдно не читал: все-таки это был очень русский поэт. А еще Клюев, Волошин, Васильев… Я о них только слышал. Так вот, что русского было высшей пробы, этот парень принимал сердцем.
Обручев раскурил потухшую папиросу и продолжал:
— Два месяца в той обстановке — это, брат, срок. Я, разумеется, больше помалкивал да поддакивал, но думать-то мне никто не мешал. И вот я думаю: а кто, собственно, мы такие? Кто дал нам право навязывать другим ту жизнь, которой мы живем сами? Может, кто-то от этого стал счастливее? Ты, например? Или я? Или кто еще? У себя пока одни несчастья, а мы другим пытаемся доказать, что это-то и есть настоящее счастье.
Обручев говорил, не глядя на Красникова, и казалось, что ему не так уж и важно, как командир роты особого назначения воспримет его слова. Обручев, видимо, слишком долго носил в себе свои размышления, и вот нашел собеседника, который если и не поймет всего, как того хотелось бы Обручеву, то, по крайней мере, выслушает со вниманием и не побежит доносить.
День ли, тихий и по-осеннему печальный, близость ли предстоящего боя, которого с покорной обреченностью как бы ждала сама природа, желание ли найти отзвук в чужой душе, тоже изломанной долгой войной, или все вместе взятое заставляло капитана Обручева, забыв осторожность, рассуждать вслух впервые за многие годы; а может быть, он видел своим внутренним взором, взором далеко наперед рассчитывающего человека, как в это самое время, в нескольких километрах отсюда, в темном схроне принимает мученическую смерть доверившийся ему простоватый человек…
— У меня иногда такое ощущение, — снова заговорил Обручев, — что я член семьи, в которой отец — алкоголик, мать — проститутка, братья и сестры поворовывают, наушничают, а между тем истинную свою жизнь друг от друга скрывают, меж собой говорят умные речи и сами — вот что особенно удивительно! — верят в истинность этих слов, в чистоту своих помыслов и намерений, но едва переступают порог своего дома, как начинают жить совсем другой жизнью. И если бы кто-то из членов семьи попытался заявить, что они совсем не те, за кого себя выдают, его бы разорвали на месте… Тебе не кажется, Андрюха, что мы запутались? — Обручев поднял голову, повернул ее и посмотрел на Красникова тоскливыми, какими-то безжизненными глазами. — В семнадцатом вроде все было ясно, а чем дальше, тем сумрачнее.
— Мне кажется, что ты идею отрываешь от ее содержания! — горячо возразил Красников, и не столько потому, что не был согласен со словами Обручева, сколько из желания погасить в его глазах тоску, вдохнуть в них жизнь: так поразили Красникова эти глаза. — Не может идея существовать сама по себе! Идея-то как раз в том и состоит, чтобы сделать человека счастливым — сам же говоришь! Потому что счастье человечества состоит из счастий отдельных личностей. А как же иначе? Но беда в том, что средства для реализации этой идеи человек может выбирать — по своей неопытности и нетерпеливости — как бы не отвечающие духу этой идеи, в чем сама идея не виновата. Да и в выборе средств мы не всегда вольны, — добавил Красников, имея в виду Жупана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: