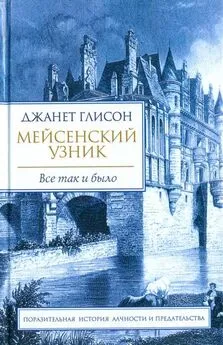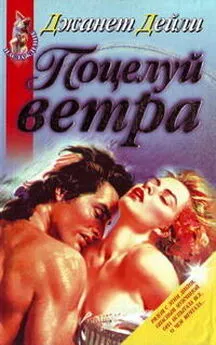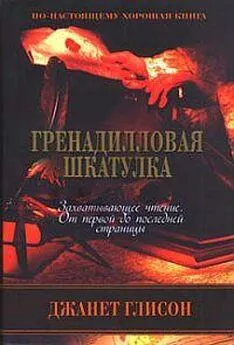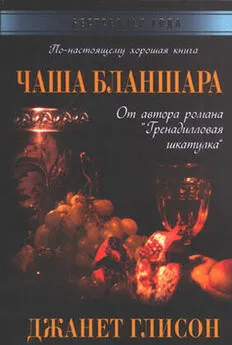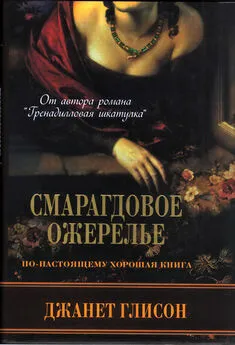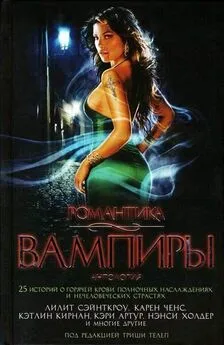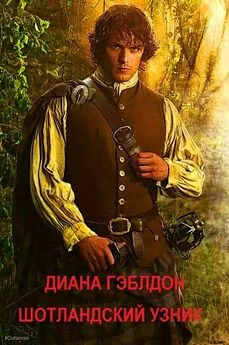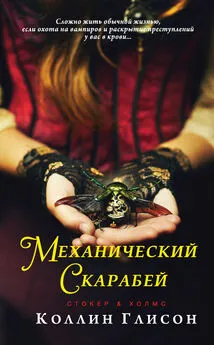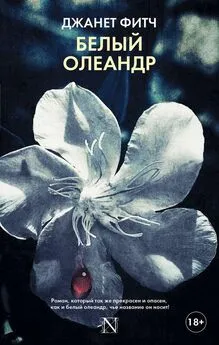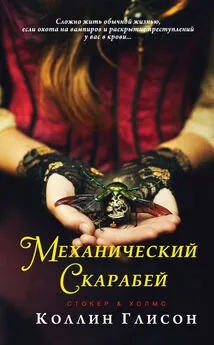Джанет Глисон - Мейсенский узник
- Название:Мейсенский узник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель, Полиграфиздат
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-073025-4, 978-5-271-34125-0, 978-5-4215-2092-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джанет Глисон - Мейсенский узник краткое содержание
Мейсенский узник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Король должен пообещать, что впредь деньги за готовые заказы, а также на закупку сырья и выплату жалованья будут поступать бесперебойно. Кроме того, нужны вложения в развитие фабрики. И наконец, сказал Бёттгер, крайне важно, чтобы он сам, как первооткрыватель формулы и управляющий мануфактурой, распоряжался всем напрямую, а не через Немица и его присных, которые все указания переиначивают по-своему. Нынешняя система порочна и ведет фабрику к неизбежному краху.
Члены комиссии, слушая эту смелую речь, вероятно, с трудом верили собственным ушам. Как смеет алхимик-арестант, показавший свою полную неспособность вести дела, дерзко обличать руководство и требовать кардинальных перемен? И неужто этот человек, известный сомнительным поведением, думает, будто ему и впрямь доверят единолично распоряжаться столь важным для короля производством?
Однако, в отличие от Немица и других чиновников, занятых лишь собственным обогащением, Штейнбрюк и Бартоломей встали на сторону Бёттгера, видя, что тот искренне болеет за фабрику (чего нельзя было сказать о его критиках). Да, он не лишен недостатков (к тому времени о его пьянстве знали, конечно, все), и тем не менее ему можно доверять. Оба они поддержали требование реформ. Под их нажимом комиссия признала жалобы Бёттгера справедливыми и согласилась передать их королю вместе с предложениями по реорганизации.
Август, несмотря на политические треволнения, все так же страстно обожал фарфор и гордился своей уникальной, пусть пока и не очень успешной фабрикой. Отчет комиссии заставил его всерьез задуматься. Понятно было, что без надежного финансирования предприятие не выживет. Перемены назрели — это был вынужден признать даже король.
Деньги на выплату жалованья и завершение печи сразу нашлись. Бёттгер тоже получил некоторую сумму на текущие расходы и прожитие (хотя король и оставил его под домашним арестом). Что уже совсем удивительно, ему передали общий контроль над производством и продажей. И наконец, дабы выручка не утекала в карманы вороватых служащих, учредили отдельную оптовую компанию, которой отныне принадлежало монопольное право торговать продукцией Мейсенской мануфактуры.
Старую дирекцию распустили, однако Немиц ухитрился сохранить власть, а с ней и возможность вредить Бёттгеру. Он применил ловкий обходной маневр — вложил средства в посредническую компанию; теперь основной доход от изобретения доставался ему, частенько за счет непрактичного первооткрывателя.
Еще год, и долгожданную печь наконец достроили. До нас дошло мало сведений об устройстве первых печей; известно, что для высочайших температур, необходимых при обжиге фарфора, Бёттгер спроектировал совершенно новую конструкцию из огнеупорных кирпичей, состав которых тоже разработал сам. Первые печи были маленькие, цилиндрические, чуть больше метра в длину и всего тридцать сантиметров в ширину: там помещались только небольшие фарфоровые изделия. Следующие были в десять раз больше, но работали по тому же принципу. О гениальности Бёттгера явственно свидетельствует тот факт, что до девятнадцатого века никто не смог усовершенствовать его конструкцию.
Стали регулярно прибывать воловьи упряжки с каолином из Ауэ. Впрочем, и с этими поставками не все было гладко. Сын Шнорра, Ганс Енох, показал себя прожженным дельцом. Он довольно скоро научился пользоваться тем, что завод целиком зависит от его глины, и в следующие десятилетия попортил немало крови и Бёттгеру, и его преемникам на посту управляющего фабрикой. Шнорр постоянно взвинчивал цену на каолин — только за первые десять лет она выросла почти вдвое — и к тому же безбожно драл за доставку. А когда мейсенский управляющий выражал недовольство, Шнорр задерживал очередную партию глины, или высылал негодную, или даже продавал ее конкурентам, несмотря на письменный договор, закрепивший исключительные права Мейсена. Однако в 1712 году всем казалось, что вопрос с поставками каолина решен, и Бёттгер смог наконец приступить к долгожданному производству фарфора.
Штейнбрюк регулярно обходил с инспекцией растущий Мейсенский завод. Каждый из множества сложных технологических процессов требовал неусыпного надзора. Первая стадия превращения глины и камня в несравненной красоты предметы, достойные монарших дворцов, состояла в подготовке компонентов. Природный каолин представляет собой хрупкое комковатое вещество с зернами полевого шпата, кварца и других примесей, способных, если их не отделить, испортить ровную фактуру готовых изделий и придать черепку грязноватый оттенок. Итак, первым делом глину надо было очистить.
Очистка происходила в системе сообщающихся емкостей, через которую с постоянной скоростью протекала вода. В первом большом чане глину отмучивали — то есть взбалтывали с водой. При этом песок оседал на дно, а сама глина в виде взвеси поступала в соседний чан. После отделения механических примесей ее отжимали на фильтр-прессе: лишняя влага уходила, оставались тончайшие частички каолина. Тем временем алебастр толкли в огромных деревянных ступах, а затем истирали в валковых дробилках до консистенции сахарной пудры.
Затем наступала самая ответственная стадия процесса: смешивание. Тщательно отмеренные порции двух основных компонентов, каолина и алебастра, перемешивали веселкой в большом открытом чане до получения равномерной массы кремового оттенка. Затем рабочие вновь отжимали ее в фильтр-прессах, отделяя лишнюю влагу. Полученную плотную массу подмастерья относили в сырые подвалы Альбрехтсбурга, где она, как оставленное расстаиваться тесто, дозревала восемь недель, чтобы обрести пластичность. Потом ее вновь месили и отжимали, чтобы не осталось пузырьков воздуха, и лишь после этого она поступала к мастерам-формовщикам. Простые полые модели делали на гончарном круге, более сложные детали отливали в гипсовые формы, а потом собирали, используя вместо клея жидкую фарфоровую массу.
Отформованные и собранные изделия ставили на просушку, которая длилась до трех месяцев. При сушке и обжиге каждый предмет дает усадку примерно в 15 % за счет потери влаги, и очень существенно, чтобы это происходило медленно — при быстром высыхании фарфоровое тесто может пойти трещинами.
Теперь белые и слегка мучнистые на поверхности изделия подвергали первому обжигу при температуре 800 °C, чтобы они стали прочнее и лучше принимали глазурь. Она состояла из тех же компонентов, что и основная масса, но с большим относительным содержанием алебастра, таким образом при обжиге черепка и глазури происходил один и тот же процесс. Покрытые глазурью изделия для защиты от огня, копоти и неравномерного жара ставили в короба из огнеупорной глины, называемые капселями. Затем разжигали огонь и доводили температуру до 1450 °C, после чего дровам давали прогореть и дожидались, пока печь медленно остынет. При отсутствии термометров для определения температуры требовалась большая сноровка: слишком сильный или недостаточный жар мог сгубить бесценную продукцию. К тому времени Бёттгер значительно усовершенствовал конструкцию печей, и Штейнбрюк отмечает, что после 1713 года это было «совершенно новое, особенное изобретение… в котором воздух и огонь смешивались, так что из-за сильной тяги казалось, будто это бушующий воздух, а не огонь, какой мы привыкли видеть в печи». Штейнбрюк, возможно, не понимал, как жар преобразует глазурь в прозрачную расплавленную субстанцию, спекающуюся с фарфоровым черепком, — субстанцию, которая, остыв, образует твердый прозрачный слой на просвечивающем фарфоре. Однако ясно было, что изобретенная Бёттгером глазурь — это, образно говоря, кожа на «костях и мясе» фарфора: глине и камне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: