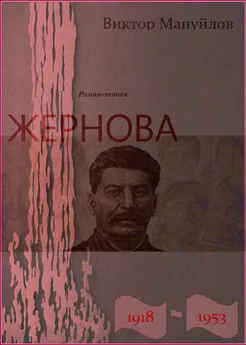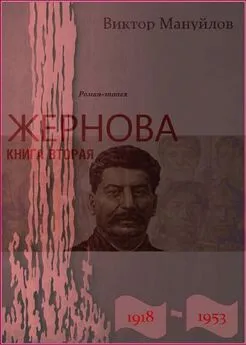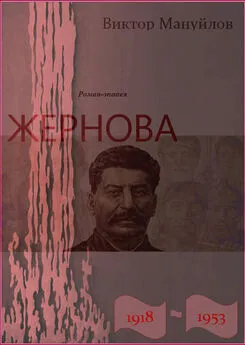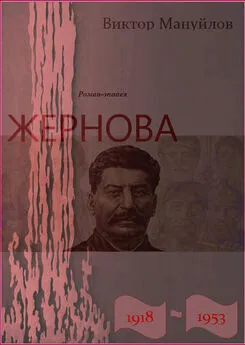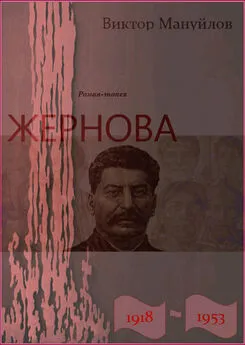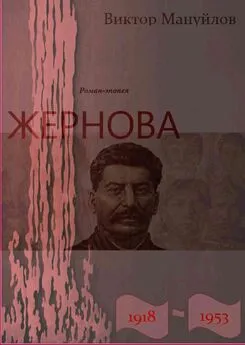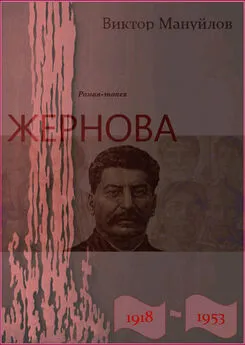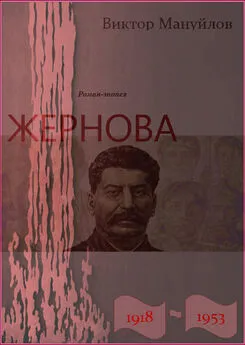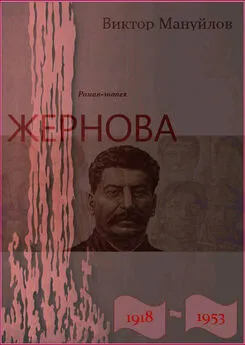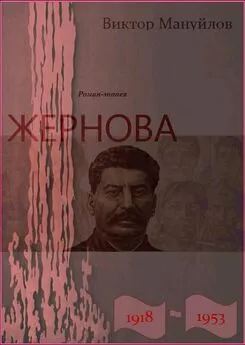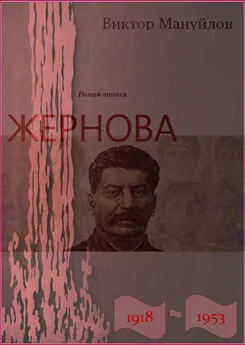Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь
- Название:Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь краткое содержание
Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Женщина чем-то неуловимо напоминает саму Марию.
Зинаида на заводе работает третий год, Мария — первый. Обе из деревни, как и большинство тогдашних молодых рабочих, только Мария — тверская, а Зинаида — новгородская, обе из многодетных семей, обе еще побаиваются города, не слишком доверяют ему, наслышанные от отцов-матерей о нахальстве и жуликоватости городских жителей, обе не могут похвастаться образованием: у Марии два класса начальной школы, у Зинаиды четыре и коридор; обе не стремятся к знаниям, не любят читать и даже боятся книг: от них де все напасти; на крикливую комсомолию смотрят с опаской и надеются на скорое и счастливое замужество.
Мария, надо сказать, четыре года до этого прожила в Москве, в няньках, но городской так и не стала, хотя и приобрела некоторые навыки, отличные от деревенских, а столицы практически не разглядела: одни лишь дворики, куда выносила или выводила гулять своих подопечных, да ближайшие магазины.
Бурная московская послереволюционная жизнь ее, конечно, как-то коснулась своим горячим дыханием, но в саму Мариину жизнь не внесла практически никаких изменений: не случись революции, все для нее могло бы следовать в том же порядке, что и в теперешней жизни. Если бы, конечно, не вполне вероятное раннее замужество у себя в деревне по воле родителей.
Глава 24
В девятьсот восьмом году отец Марии, Василий Ершов, отделился от мира и подался на отруба, построив на кредит Крестьянского банка огромный дом на крутом берегу Тверцы, при впадении в нее ручья, по прозванию Змеиный, и мельницу на самом ручье, перегородив его плотиной. Вся семья от мала до велика горбила на этой мельнице и на земле, что досталась ей по царскому и Столыпинскому указу.
Не выдержала каторжной работы и, надорвавшись, померла через два года во время преждевременных родов жена Василия Анна, отделился старший сын Михаил, не одобрявший отцовой алчности.
Вдовец, однако, горевал недолго, привел в осиротевший дом другую жену, вдовицу же, соединив восьмерых своих детей с тремя приемными, да новая жена произвела на свет божий еще четверых, так что семья продолжала расти и растить своих работников, и на этой основе год от года состояние Ершовых понемногу увеличивалось. В перспективе Василию Ершову виделись льнопрядильня, спиртзавод, другие промыслы и звание купца если не первой, то и не самой последней гильдии.
Грянула война с германцем, за два года которой Василий Ершов сумел сколотить небольшой капитал на поставках овса и ячменя для действующей армии, а вскоре разразилась революция. Четверых сынов обрили и одели в серые шинели, домой они вернулись не скоро, чужими для отца людьми: с другими взглядами на жизнь, с другим отношением к крестьянскому труду, к своему прошлому и настоящему. На отцовой мельнице, да и в нищей деревне, им делать было нечего, и они подались в город, где все им теперь было понятнее и ближе.
В восемнадцатом году, осенью, когда подошло время помола, мельница сгорела, дому и хозяйственным постройкам досталось от огня тоже. Пожар случился то ли по неосторожности самих хозяев, то ли от поджога завистников. Новые власти оказались скорыми на суд и расправу: главу семьи арестовали и судили за саботаж "продовольственного вопроса" и кулацкую агитацию против коммуны.
Василий Ершов отсидел год с небольшим и вернулся домой совершенно другим человеком, будто в тюрьме его подменили: зажил тихо-смирно, особо не надрываясь, лишь бы семье хватало на прокорм, а другие пусть заботятся о себе сами.
Мельницу так и не восстановил. Видать, в тюрьме получил полное образование по части политической экономии при новом государственном строе.
А дальше — как в сказке: мачеха придирками да непосильной работой потихоньку выживала из дому неродных детей, надеясь, что все добро достанется своим, так что Марии, даже и без революции, дома места не находилось и в люди идти пришлось бы в любом случае…
Да только не суждено было сбыться мачехиным расчетам: и добро пошло прахом, и детей не удержала — все разлетелись, кто куда. А больше, конечно, в Москву да в Питер, поскольку жили как бы посередке меж двумя столицами. Ну, и от железки не так уж далеко: верст десять, не более.
В Питере — раз, два и обчелся, а в Москве на ту пору уже проживало множество ближних и дальних Марииных родственников, — в основном Рощиных по матери и Ершовых по отцу, — осевших в первопрестольной в разные времена, иные — еще при крепостничестве: нужда загоняла в большие города на заработки многих крестьян из полунищих тверских деревень. Тетки и дядьки, всяко-юродные братья и сестры, племянники и племянницы различных степеней родственности, — все они жили своей более-менее устоявшейся замкнутой жизнью, связей между собой почти не поддерживали, каждый крутился, как мог, надеясь только на себя, успехами, у кого они были, не хвастались, чтобы не возбуждать зависти, о неудачах не распространялись, чтобы не выглядеть бедными родственниками, надеющимися на богатого дядю.
Иные достигли вполне солидного положения при прошлой власти, да утратили его в октябре семнадцатого, иные наверстали свое при нынешней, иные по голодному тому времени вернулись в деревню.
Один не очень дальний родственник по матери, Егор Рощин, числился, по слухам, каким-то там заместителем какого-то наркома, — величина по крестьянским меркам прямо-таки невозможная, почти что княжеская. К нему Марию и направили весной двадцать четвертого, едва девчонке перевалило за двенадцать лет. Предполагалось, что сановный родственник поможет устроиться в Москве на хорошее место: при его-то власти, казалось, дело это совершенно плевое… Так Марию даже на кухню не пустили.
Имелись у Марии еще несколько адресов — в том числе и Михаила Ершова, сына родного брата Михаила, самого старшего в семье и самого любимого Марией, к которому она убегала, когда ей от мачехи доставалось особенно густо. Разумеется, и всех других братьев и сестер, и даже сводных, она тоже любила, и сами дети различия между собой не делали, но старший брат стоял наособицу: это был правдолюб и правдоискатель, человек рассудительный, по природе очень мягкий и добрый.
Старший сын Михаила Васильевича, тоже Михаил, уехал в Москву еще в двадцатом, пятнадцати лет отроду. О нем в деревне поговаривали, что он свихнулся на чтении книг. К нему-то Мария и направилась, захлебываясь слезами, после неласкового приема у сановного родственника.
Жил Михаил недалеко от Бутырки, занимал с женой и годовалым сыном две крохотные комнатенки, работал корректором в советском издательстве, выпускавшем дешевые книжки для малограмотных, учился на каких-то литературных курсах, пописывал стихи, иногда печатался, за стихи получал гроши, как, впрочем, и за работу в редакции, но там зато сверх денежного довольствия ему выдавали продуктовые рабочие карточки, как человеку, полезному для пролетарского государства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: