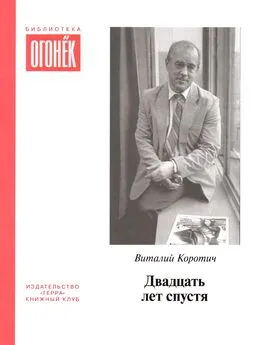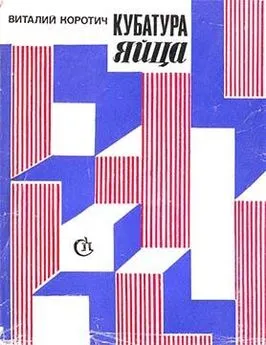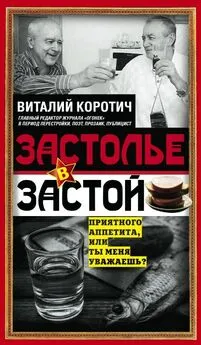Виталий Коротич - От первого лица [litres]
- Название:От первого лица [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07864-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Коротич - От первого лица [litres] краткое содержание
От первого лица [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А я тем временем подыхал. Очень хотел умереть и, возможно, умер бы. Но из Москвы позвонил и предложил помощь Константин Михайлович Симонов: непростой судьбы писатель, но он не раз спасался из опал и знал, как это делается. Затем позвонили из Латвии и спросили, не хочу ли я у них поработать. Позвонили из Грузии и спросили, не хочу ли я у них отдохнуть. Тут же в мою защиту выступила «Комсомольская правда» – статью написал один из немногих оставшихся в украинской литературе образованных критиков Леонид Николаевич Новиченко; решили, что будет лучше, если украинской газете огрызнется украинский писатель. Новиченко был уже очень немолод, грустно прославился своей старательностью во времена сталинских погромов, но в шестидесятых годах стал одним из оплотов возрождающейся словесности, активно заступаясь за детей из того литературного поколения, отцов которого он уничтожал.
Все происходившее было для меня важно и поучительно. Это и был настоящий интернационализм, если воспользоваться испоганенной чинушами скороговоркой. Я с великой отчетливостью понял, что в стране уже существует система репутаций поверх номенклатурно расписанных должностных положений. Поверх барьеров и кормушек постепенно складывался честный фронт сопротивления чиновничьему всевластию; мы еще только нащупывали друг друга, но уже в одиночестве не оставались. На другом, диссидентском, уровне работал солженицынский фонд, выплачивая семьям репрессированных хоть какие-то деньги. На чисто человеческом уровне, том самом, который в стране и хотели разрушить, мы нащупывали друг друга по-новому, оберегали друг друга, помогали себе понять, что и у нас – сила. Через несколько лет мы поехали с Симоновым в Париж в составе одной делегации, и он, картавя, как обычно, повторял шутливый свой афоризм: «Если нельзя, но очень хочется, то – можно! Пробьемся…»
А ведь киевские чиновники требовали от меня единственного – покаяния. Они были очень огорчены тем, что нарушилась карательная координация (в Киеве – давили, московские интеллигенты – защищали). Позже, при других обстоятельствах, некий Николай Ищенко, позаведовавший отделом культуры в украинском ЦК, доверительно сказал мне, что они очень хотели уладить все куда проще – я прихожу к ним в ЦК, сочиняю нечто покаянное на заданную тему и получаю какой-нибудь Большой приз. «Эх, поспешил ты, – сказал Ищенко. – Большой шанс прошляпил…»
В тот раз я еще крепче усвоил: если хочешь остаться самим собой, нельзя заигрывать с чиновничьим муравейником. Нельзя позволить, чтобы тебя поймали хоть за мизинчик, хоть однажды покаяться. Если уже эти ребята ухватят, то будут держать, как кот держит птичку: даже вырвавшись, летать уже не сумеешь.
В дальнейшем мне помогал не только наработанный запас популярности, но и репутация человека, уцелевшего после директивной статьи. И тем не менее я понимал, что поэзия – стихия воздушная, а в этой стране затыкали рты поэтам и получше, чем я. Совершенно сознательно я все больше погружался в прозу и эссеистику. Кроме того, я, как никогда четко, понимал, что вырываться от чиновников надо, но прежде всего – от украинских, родимых, которые целый народ сознательно замуровывали в провинциальность. Как же они старательно искали и находили писателей, готовых в этом помочь, как укрепляли украинскую литературу именно на этом, примитивном, уровне и подавляли все попытки вырваться за рамки спланированной, обустраиваемой ими духовной провинции!
Я много ездил по бывшей нашей стране: Крайний Север, Дальний Восток, любимые мои Грузия с Латвией, – и с радостью ощущал, сколь дружелюбен и велик окружающий мир. Я был счастлив, что меня переводили замечательные поэты многих народов, что меня избрали почетным гражданином грузинского города Кутаиси, награждали какими-то янтарными медальонами латышских селений. Я понимал, что дружба разных народов на личном, человеческом уровне – понятие святое и она существует! Я делал свое дело все более сознательно, все лучше понимал, что моим уделом становится не одиночество, а дружественность хороших людей, согревающая душу. Были такие люди и на Украине: мои друзья по литературе Загребельный и Зарудный, певцы Гуляев и Мирошниченко – всех не перечислю за один раз. Все больше я понимал, что свобода не бывает русской или латышской, украинской или грузинской – исключительно национально-территориальной. Свобода всеобща, и она или есть, или отсутствует вообще. Высказывая такие мысли, я, с одной стороны, становился ближе многим важным для меня людям, а с другой – укреплял среди родимых дуболомов слухи о своем тайном еврействе (еще раз!). Старый лозунг славянских революций «За вашу и нашу свободу!» обретал для меня совершенно конкретный смысл.
…1990 год. Я работал в составе парламентской комиссии, признавшей незаконность так называемого пакта Риббентропа – Молотова, при помощи которого советская армия оккупировала Прибалтику. Как ни странно, представлял я в этой комиссии Эстонию. Эстонцы сами попросили: «Мы не хотим работать в составе комиссии, но хотим, чтобы нас там представлял порядочный человек». Кстати, Украину в комиссии представлял тогдашний министр иностранных дел Владимир Кравец, стойко голосовавший против всех прибалтийских независимостей. Много лет спустя, уже в Бостоне, я получал рождественские поздравления из Риги и Таллина и очень гордился ими.
Дело в том, что хорошие люди в каждом народе хоть чем-то, а отличались: внешне или по типу мышления. И чиновники были свои в каждой республике, только очень маленький отряд их был как бы вненациональным, центральным. Чиновники вовремя поняли, что страну надо делить, и лихо поделили ее между собой. Это провело новые границы, но не нарушило их чиновничьего братства. Не нарушило это и моих отношений со многими друзьями. У клерков была своя работа, у нас – своя.
С латышским поэтом Имантом Зиедонисом я в свое время написал единственную книгу, сочиненную мной в соавторстве, хоть до того я и предположить не мог, что когда-нибудь окажусь способным на работу вдвоем с кем бы то ни было. Просто Имант позвонил мне и спросил: «Тебе плохо?» – «Плохо», – ответил я. «Давай уедем подальше и от твоего дома, и от моего и сочиним книгу вдвоем, потому что мне тоже плохо», – сказал Имант.
Он прилетел в Киев, и мы начали фантазировать. Родители Иманта были рыбаками, мой отец был из крестьян – в нас с моим другом была заложена совершенно разная аксиоматика, совершенно непохожие изначальные представления о мире. Мы очень дорожили этим и договорились уехать в горы Таджикистана, на афганскую границу, где все не похоже ни на его Латвию, ни на мои родные края. Мы договорились, что будем странствовать вместе, но не будем разговаривать об увиденном, так как очень ценили самостоятельность друг друга. Важно было все увидеть по-своему и по-своему написать. Кажется, так и получилось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Виталий Коротич - От первого лица [litres]](/books/1142802/vitalij-korotich-ot-pervogo-lica-litres.webp)