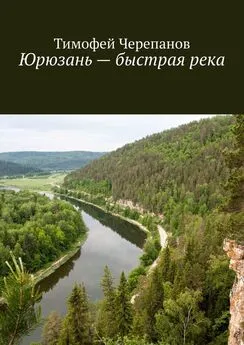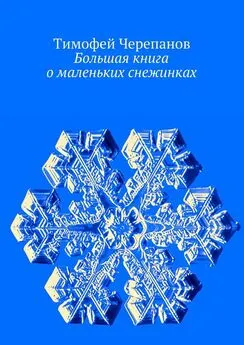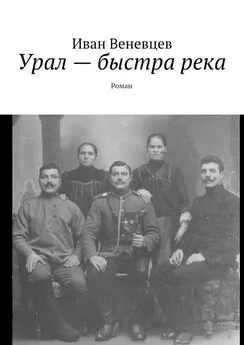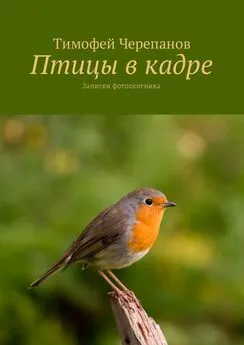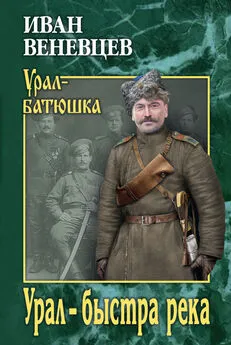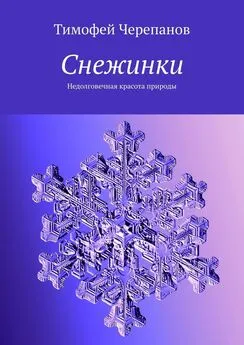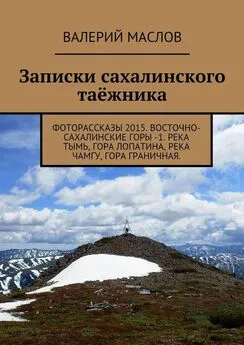Тимофей Черепанов - Юрюзань – быстрая река
- Название:Юрюзань – быстрая река
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449602527
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Черепанов - Юрюзань – быстрая река краткое содержание
Юрюзань – быстрая река - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что меня особенно заинтересовало, так это упоминание двух мест под названием «Камни набережныя Музуры» – одно на месте нынешнего посёлка Октябрьский (народное название – Мазур, хотя и Музур в разговорной речи тоже звучал), второе – в районе пос. Комсомольский, построенного на месте дер. Кисетовка и сохранившего это название в устной речи. Получается, что топоним Мазур – исторический, хотя значение его и неизвестно. Это же надо было до такой степени ненавидеть собственную историю (или вообще ненавидеть всё на свете), чтобы на старое звучное слово Мазур (Музур) шлёпнуть совершенно выхолощенные и набившие оскомину Октябрьский и Комсомольский!
Небезынтересно было бы узнать, в какой степени эта карта помогала лоцманам проводить караваны по живой реке в условиях, когда ситуация могла измениться в любой момент. Конечно, камни, скалы и острова не перемещались в пространстве, однако в русле могла появиться отсутствовавшая в прошлую навигацию карча, а за ней – мель. Потерпевшая аварию огромная барка могла внезапно перекрыть фарватер, да мало ли что ещё могло случиться. Никто ведь не учился водить караваны по лоции – начинали в учениках у опытных караванных, зачастую сыновья у отцов. Лучше всего этот вопрос проясняет следующий диалог из рассказа Мамина-Сибиряка, списанный явно с натуры:
– Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? – спрашивал я у Савоськи.
– У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, – отвечал Савоська, – да в остожье 66 66 Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка). В книге его можно увидеть на рис. 55
и заплыл…
История с караванами имеет ещё один важный аспект. Как уже было сказано, на каждой барке находилось не менее сорока бурлаков, да ёще в составе каравана были так называемы «косные» лодки с гребцами, задачей которых было оказывать помощь при крушении барок: спасать тонущих, помогать экипажам барок, севших на мель и т. п. – своеобразные летучки. Если представить себе караван в полсотни судов, то простой подсчёт показывает, что в сплаве участвовало более тысячи человек. Барки, как тоже говорилось, были одноразовыми, назад они не возвращались, в отличие от бурлаков. Для возврата нужна была дорога или хотя бы пешая тропа вдоль реки. Вот прокладкой этих троп и закопей и занимались, судя по всему, упоминаемые Н. С. Чухаревым казённые люди. Заводы на Юрюзани были частными, однако задачи-то решали государственные. И к этой лоцманской тропе в книге мы ещё не раз вернёмся.
Итак, последний караван барок прошёл по Юрюзани в 1891 году. Но мы знаем, что к тому времени река уже была заселена, и не только крестьянами. Скорее, наоборот: сельское хозяйство являлось по сути подсобным, продукция использовалась для внутреннего потребления, а товарную продукцию давал лес. В какой-то мере этот образ жизни был подобен заводскому. Понятие рабочего, прочно вошедшее в нашу жизнь вместе с навязанным марксизмом-ленинизмом, в котором демагогии было больше, чем сути, мало соответствует реальным отношениям в царской России. У меня был один из сослуживцев, полковник в отставке, ранее преподававший в военной академии, участник ВОВ – несмотря на разницу в возрасте мы с ним дружили. И он очень гордился тем, что является сыном путиловского рабочего и может подтвердить это документально. Я просил показать этот документ, однажды он его принёс. Это была потёртая справка размером с почтовую открытку, в которой было написано, что такой-то является крестьянином такого-то уезда, приписанным к Путиловскому заводу. В сословной стране такого сословия как рабочий попросту не существовало, рабочие числились крестьянами даже в Санкт-Петербурге. Да и доходы у них были гораздо выше, чем у «освобождённых» большевиками пролетариев. Конечно, рабочий завода Путилова или Рябушинского слабо отличался от европейского пролетария, реально не имевшего собственности и жившего на зарплату. Но на Урале было не так. Практически все рабочие, будь они крепостными крестьянами или государственными, но приписанными к заводу, либо же вообще свободными и работающими, как тогда говорили, «в заводе», имели земельные участки, держали скот и домашнюю птицу. Это освобождало предпринимателя от необходимости заботиться о пропитании своих рабочих. Понятно, что совмещать работу на заводе и занятие сельским хозяйством было невозможно, но исторически сложился такой порядок, что рабочие не имели отпусков в нашем понимании, однако им предоставлялось время для занятий сельским хозяйством трижды в год: весной для обработки земли, летом для сенокоса и осенью для уборки урожая, конкретные сроки определялись по погоде. Завод на это время прекращал работу. Общая продолжительность таких отпусков, по свидетельству А. Ф. Мукомолова, составляла до 2—2,5 месяцев. Чтобы ни говорили и ни писали о тяжкой доле эксплуатируемого российского пролетариата, это не идёт ни в какое сравнение с тем, что сделала с ним и с крестьянством новая «народная» власть.
Коли уж зашла об этом речь, вспомнился ещё один эпизод из моей инженерно-научной деятельности после окончания МВТУ им. Баумана. По какому-то делу я оказался в кабинете главного инженера Лыткаринского завода оптического стекла, который допускал меня «к телу» как молодого сотрудника вузовской кафедры и вообще был человеком, как сейчас бы сказали, либеральным. При этом, естественно, глубоко советским. Так получилось, что в тот момент он решал вопрос об отправке персонала на уборку урожая, как тогда говорили – в колхоз (обычно речь шла о картошке). Я, попавший из Калмаша в ведущий ВУЗ страны, выразил сомнение в целесообразности отправки на поля квалифицированного персонала оборонного предприятия (посылали, как известно, и «доцентов с кандидатами»). Он мне и привёл в пример уральские заводы Демидовых и других. И всё бы ничего, если бы эта картошка потом не сгнивала на овощных базах, с которыми в бытность научным сотрудником я тоже имел счастье познакомиться во всех подробностях.
Но вернёмся на Юрюзань. Население на Юрюзани активно, опять-таки выражаясь советским стилем, «эксплуатировало» лес: занималось пчеловодством, в том числе бортничеством, получая роскошный мёд (о чём писал Касимовский в «Очерках о Дуване»), охотилось, делало изделия из дерева и лыка для себя и на продажу, собирало грибы и ягоды и т. п. – сейчас даже придуман такой термин: лесное благо. Я всю взрослую жизнь прожил в Москве, но от менталитета «лесного человека» отрешиться так и не смог (впрочем, и не пытался) и по сей день в лес вхожу, как в храм. Да и мёд предпочитаю башкирский…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: