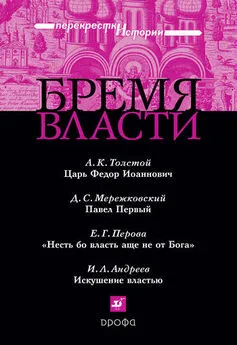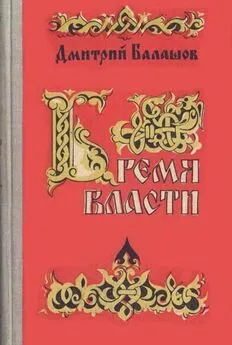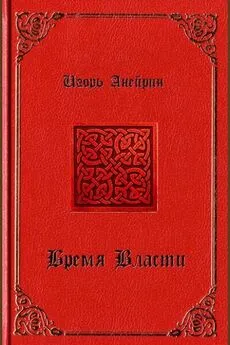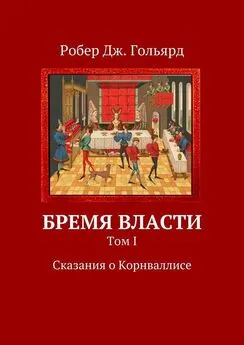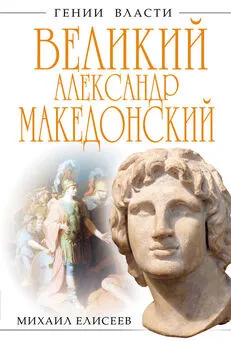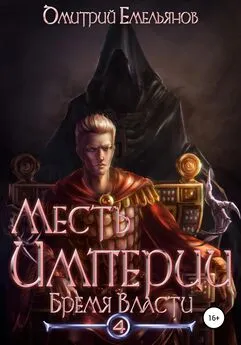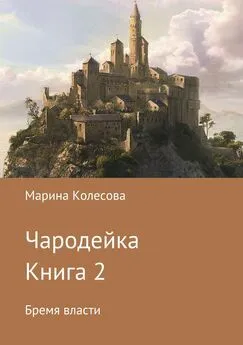Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории
- Название:Бремя власти: Перекрестки истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-358-02632-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории краткое содержание
Тема власти – одна из самых животрепещущих и неисчерпаемых в истории России. Слепая любовь к царю-батюшке, обожествление правителя и в то же время непрерывные народные бунты, заговоры, самозванщина – это постоянное соединение несоединимого, волнующее литераторов, историков.
В книге «Бремя власти» представлены два драматических периода русской истории: начало Смутного времени (правление Федора Ивановича, его смерть и воцарение Бориса Годунова) и период правления Павла I, его убийство и воцарение сына – Александра I.
Авторы исторических эссе «Несть бо власть аще не от Бога» и «Искушение властью» отвечают на важные вопросы: что такое бремя власти? как оно давит на человека? как честно исполнять долг перед народом, получив власть в свои руки?
Для широкого круга читателей.
В книгу вошли произведения:
А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович» : трагедия.
Д. С. Мережковский. «Павел Первый» : пьеса.
Е. Г. Перова. «Несть бо власть аще не от Бога» : очерк.
И. Л. Андреев. «Искушение властью» : очерк.
Бремя власти: Перекрестки истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В эйфории первых месяцев Александровского престоловладения ощутимо еще одно проявление типично российского отношения к власти. Если последней, по самой ее исторической роли, уготовано мессианство (от создания Вселенского православного царства до строительства коммунизма), то неизбежно появится и Мессия. С попытки разглядеть его в новом правителе обыкновенно и начиналось каждое царствование. Отсюда авансы, восторженные возгласы, возвышенные надежды, заканчивавшиеся чаще всего тяжелым похмельным отрезвлением с уничижительными и нередко несправедливыми оценками того, кто всех так жестоко разочаровал. Здесь уж, согласно другой отечественной традиции, костили, не жалея и не желая глубоко понять те внутренние мотивы, которые «двигали» очередным «неудачником». Но сначала были все те же чрезмерные ожидания.
Сердца дышать Тобой готовы:
Надеждой дух наш оживлен…
Это снова Николай Карамзин. И почти такая же «Ода» – на восшествие на престол. Только уже не в честь убиенного Павла, а в честь соучастника убиения, сына Александра.
Так милое весны явленье
С собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы. [175]
Александровская весна, как известно, оказалась довольно короткой и как-то незаметно скоро перешла в позднюю осень с истаявшими надеждами и скромным урожаем реформ. Разочарование, горькое разочарование, – вот итог этого царствования, – заставивший декабристов вывести войска на Сенатскую площадь.
II
Мимо образа правителя, естественно, не прошла великая русская литература. Ее влияние слабо ощутимо «внизу», в толще масс. Зато «просвещенная публика» XIX века с жадностью прислушивалась к тому, о чем говорили и писали литераторы. Отношение к слову вообще, и к поэтам-пророкам в частности, сделало литературу одним из главных источников дворянского, в последующем интеллигентского, восприятия власти. В контексте последней – ворчливая оппозиционность, брезгливость к чиновникам и подчеркнутая отстраненность от власти. Призыв «полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит» здесь был непригоден, даже если бы власть и в самом деле посвежела и побелела. В расхожем представлении российская власть могла только «пачкать и марать».
Отечественная литература всегда была шире и глубже этой односторонней презентации власти в общественном мнении. Пожалуй, самое поразительное здесь – трагико-драматическое восприятие власти и правителя. Этот подтекст хорошо улавливается в опубликованных произведениях. «Царь Федор Иоаннович» – трагедия шекспировского масштаба. Причем трагедия уже не одного человека – всей страны. Ведь Смута, в погибельном огне которой сгорят многие герои пьесы, как раз и «замешивается» в произведении благодаря кроткому безволию царя Федора и интригам честолюбивых придворных. Не случайно драму запретили к постановке: инстинкт самосохранения власти безошибочно уловил ее разрушительную силу. Резолюция цензора не столько спасала «репутацию» царя Федора, сколько выводила из-под огня критики самодержавный режим, порождающий подобные коллизии.
Здесь стоит напомнить читателю о том, что А. К. Толстой был одним из немногих, кого Александр II называл своим другом. В 1861 году в личном письме государю Алексей Константинович объяснял, отчего не может и не хочет служить: «Какой бы та не была, она глубоко противна моей природе». Свое служение Толстой переносил на литературное поприще, выговаривая себе лишь одну привилегию-обязанность, которая «к счастью, не требует мундира» – всегда говорить правду. «Царь Федор Иоаннович» и стал толстовской «правдой» о власти конца XVI столетия с намеком на власть века XIX. Последовал росчерк пера цензора. То был недвусмысленный ответ чиновников царственного друга, раскладывающих все по полочкам российского самодержавства: какая правда о прошлом нужна, какая – не нужна. Эта, толстовская, на тот момент оказалась не нужной.
В пьесе Мережковского иное измерение. Но и оно трагично: высокие цели-помыслы, поставленные Павлом, и изначально осознанная читателем невозможность их достижения. Не только потому, что конец заведомо известен. И не из-за «особенностей» личности самого Павла, способного воспоряться, но не летать. Здесь очень верна избитая присказка о свите, которая «делает короля». Что может быть нелепее и противоречивее в этой Павловской трагедии-фарсе – такие помыслы и такое окружение! Тут уж поневоле для Павла уготована драматическая ловушка: быть одновременно и смешным, и несчастным, и. убитым.
Впрочем, как не захватывающе и не проникновенна трактовка писателями и драматургами темы власти, она, с точки зрения истории, имеет существенный «изъян»: то видение художника, который вовсе не обязан строго следовать за историей. Сказанное – не в укор творцу, а лишь напоминание о том, что литература и история принадлежат к разным видам общественного сознания. Изучая человека – здесь человека во власти – и литератор, и историк (каждый по-своему) решает свои задачи. И часто абсолютно разные. «Кровавые мальчики в глазах» пушкинского Бориса Годунова – это на самом деле именно пушкинское понимание ответственности правителя за свершенные прегрешения, вечная коллизия между целью и средствами, таким образом решенная в трагедии великим поэтом. Реальный же Борис, прошедший «огонь и медные трубы» царствования Ивана Грозного, едва ли испытывал бы подобные укоры совести, даже если бы и оказался причастен к углической драме. В противном случае ему следовало исповедовать иные принципы и руководствоваться другими установками, а это плохо вяжется с необыкновенным взлетом Годунова. Совесть и жесточайшая борьба за трон – вещи мало совместимые. Это соображение вовсе не делает драму Пушкина хуже или лучше. Ведь она – вне времени, она – почти о вечном, о драме власти. Но историку приходится искать ответы, лежащие не в плоскости творческого вымысла, а в плоскости исторического факта. Для него важно как было, а не как могло бы быть .
III
Возвращаясь в область исторического познания, зададимся вопросом: существовало ли в сознании русских людей XVI–XIX веков некое представление о власти и как оно, это представление, влияло – и влияло ли на самих правителей? Причем речь идет о самой высшей, царской, власти. Соответственно, и о самом тяжком властном бремени.
Со времен Макса Вебера одной из центральных проблем всех социальных наук, изучающих феномен власти, стала проблема легитимности: что заставляет общество признавать или «терпеть» существующий политический режим? Что делает власть законной и «естественной» в глазах населения? Историки ищут ответы на эти вопросы, изучая, в частности, представления о власти и властителях в том или ином обществе. В этой проблеме можно выделить два аспекта: массовые представления о власти – с одной стороны, и ученые трактаты на эту тему юристов, богословов, философов, а также сочинения и высказывания самих власть предержащих, – с другой. Для нашей темы важен прежде всего первый аспект – массовые представления, под которые монарху, так или иначе, приходится «подстраиваться». Само собой разумеется, не обойтись и без идеологии. Последняя, если не вдаваться в подробности, укореняется в обыденном сознании в виде стереотипов, упрощенных представлений. Причина могущества этих стереотипов – не только в их прочности, но и в эмоциональной окраске. Действительность сравнивается с идеалом и оценивается посредством стереотипов. И это сравнение, окрашенное эмоционально, порождает действия разной силы и последствий. Случается, рушатся старые и рождаются новые династии, и даже царства. И в этом нет ничего удивительного: монархическое сознание насквозь пронизано стереотипами, восходящими к особому восприятию и толкованию понятия «царь».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: