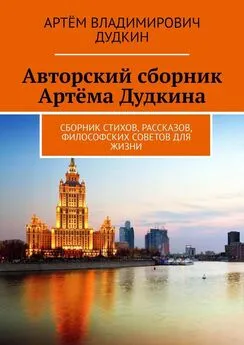Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник]
- Название:Партизанская музыка [авторский сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-270-00041-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник] краткое содержание
О юноше, вступившем в партизанский отряд, о романтике подвига и трудностях войны рассказывает заглавная повесть.
„История неоконченного поиска“ — драматическая повесть в документах и раздумьях. В основе ее — поиск партизанского отряда „Мститель“, без вести пропавшего в августе 1942 года в карельских лесах.
Рассказы сборника также посвящены событиям военных лет.
Д. Гусаров — автор романов „Боевой призыв“, „Цена человеку“, „За чертой милосердия“, повестей „Вызов“, „Вся полнота ответственности“, „Трагедия на Витимском тракте“, рассказов.»
Содержание:
Партизанская музыка (повесть)
Банка консервов (рассказ)
Путь в отряд (рассказ)
История неоконченного поиска (повесть в документах)
Партизанская музыка [авторский сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В районе Медвежьегорска находилось несколько трудовых лагерей, тяжкому, изнурительному режиму которых никто не позавидует.
Лагерь, из которого совершила побег группа Орлова, был из разряда льготных. Здесь в основном содержались пленники финно-угорского происхождения и имелся госпиталь, обслуживавший все другие лагеря в округе. «Соплеменникам» ежедневно выдавалось даже курево — по три сигареты в день. Этой жалкой подачке предназначалась и коварная роль — подчеркивать различие и возбуждать зависть и неприязнь у русских. Здесь к полуголодному пайку ежедневно полагалось сливочное масло — крохотный кусочек, размером с пятикопеечную монету. Отсюда не водили на тяжкие работы — в лес или на дорожное строительство. Для 150—160 человек здесь хватало вспомогательных работ внутри лагеря — в госпитале и в прачечной, в дезкамере и на вещевом складе, в скотобойне и в столовой, в столярной и сапожной мастерских, в гараже и на конном дворе, которые обслуживали и соседние лагеря.
Здесь дозволялись среди пленных художественная самодеятельность и ремесла, изредка устраивались даже концерты.
Лагерь выполнял роль показательного. Сюда привозили представителей Международного Красного Креста, охотно допускали журналистов — своих и зарубежных.
Судя по всему, лагерное начальство полагало, что каждый военнопленный, попавший сюда, должен считать себя облагодетельствованным, и он, конечно, не станет думать о побеге.
Бегают из других лагерей — из 31-го, 74-го, 75-го. А тут зачем от добра искать добра? Отсюда не бегают, наоборот — сюда стремятся попасть дистрофики, «фитили» и «доходяги».
Вероятно, так или примерно так рассуждало командование ротой военной полиции, когда постепенно убавляло постовых на сторожевых вышках, пока не довело их до одного-единственного, да и тот предпочитал коротать ночь в будке у проходной…
Когда в январе 1986 года я рассказал обстоятельства побега финскому военному историку Хельге Сеппяля и спросил — чем, на его взгляд, можно объяснить беспечность охраны медвежье горского пересыльного лагеря, он согласился с моей версией, а потом, подумав, с улыбкой добавил:
— А может, это и не беспечность… Просто ваши парни перехитрили наших стариков. Ведь в охране у нас служили, как правило, пожилые…
Еще подумал и еще добавил:
— Война за два года всем осточертела. Все ждали конца, тянули свою лямку…
Как бы там ни было, но удачный побег группы Орлова наделал переполох.
Вот что рассказывал об этом в 1954 году доктор Василий Никитич Раковский, работавший тогда в Петрозаводске рентгенологом туберкулезного диспансера:
«После обнаружения побега среди администрации лагеря была большая суматоха. Были вызваны розыскные собаки, с которыми финны ходили искать беглецов. Однако задержать никого не удалось. Режим охраны резко изменился. Были выставлены часовые на каждом углу лагеря. Сделали дополнительные ряды колючей проволоки. В самом лагере начались поголовные допросы и избиения. Финны все время искали соучастников и пособников побега, но результатов не добились. Лично меня тоже допрашивали об этом, но я притворился незнающим…
Осенью 1943 года в наш лагерь был доставлен захваченный финнами один советский разведчик, который был ранен в обе ноги. Фамилию этого разведчика я не знаю. Он находился в тяжелом состоянии и через день был куда-то увезен. Этот разведчик, когда ему делалась перевязка, говорил, что группа военнопленных, бежавших из нашего лагеря, перешла на сторону советских войск. Двое из них якобы подорвались на мине и получили ранения.
Из числа бежавших вместе с Орловым обратно в лагерь никто не возвратился. Во всяком случае, лично я никого из них, в том числе и Орлова, больше не видел и от других лиц о них ничего не слышал».
О тревоге по линии фронта в связи с побегом свидетельствует и «Дневник боевых действий» 5-го пограничного егерского батальона, державшего линию охранения от Падан до Ондозера.
От Медвежьегорска до района дислокации 5-го батальона почти сто верст, но уже 14 июня 1943 года в «Дневнике» появляется запись:
«14.06. 17-00. Командир батальона майор Кивикко дал распоряжение вянрикки (прапорщику) Салмио выслать юго-восточнее Топорной горы в точку 155,9 две патрульные группы по пять человек под командой сержанта Пентунена. Цель — осуществлять засаду против убежавших из медвежьегорского лагеря военнопленных. С упомянутой точки вести наблюдение, засаду и патрулирование как на север, так и на юг. Патрулю в течение дня связываться дважды по радио. Срок засады — двое суток.
Прапорщику Салмио с девятью человеками отправиться в Сельгу, откуда расположить засады: 1) у ручейка в точке Х-0370 и У-1050; 2) по направлению тропы в точке Х-000, У-0380. Продолжительность засады трое суток. Отправление на место сегодня в 18-45».
Засады, усиленное наблюдение и патрулирование продолжались в течение почти месяца, охватывая все новые и новые районы. В них постепенно втягивались все подразделения 5-го пограничного батальона. Тревога не ослабла, а скорее — усилилась после того, как на окраине села Паданы произошел эпизод, о котором в «Дневнике боевых действий» записано следующее:
«26.05. 21-05. Вянрикки Салмио доложил по радио: наш патруль встретил в точке Х-1920 — У-1920 трех убежавших военнопленных. Пленные оказали сопротивление, и все были убиты. У одного пленного были знаки различия финского лейтенанта. У пленных много патронов и ручных гранат. Среди убитых пленных Орлов, паданский Миронов и предположительно Афанасьев».
Майор Кивикко тут же приказал выслать дополнительные патрули вдоль дорог Паданы — Юкко-губа и Сяргозеро — Лазарево — Гонгинаволок, чтобы закрыть остальным беглецам путь на север и на восток.
Ничего этого не знали и не могли знать сами беглецы.
Торопливо, почти впробежку, они углубились в лес, взяли направление на северо-запад, и мир замкнулся для них пределами видимого. Скорей, скорей! Главное — оторваться, уйти подальше, выбраться на необжитые просторы, а уж там можно будет думать о том, как запутать следы на случай погони!
Неожиданности начались чуть ли не с первого часа.
В нескольких километрах севернее Медвежьегорска путь преградила широкая, свежеотсыпанная, прямая и ровная дорога, тянувшаяся с запада на восток. Шедший впереди Яковлев растерянно остановился — еще два года назад никакой дороги тут не было, да и на финской карте Орлова она не значилась. Присели на корточки, посовещались, сообразили, что это и есть та самая дорога в обход города к линии фронта, на строительство которой гоняют пленных из соседних лагерей, и решили курса не менять, только дорогу не форсировать перебежками, а переходить спокойно, походной цепочкой, чтоб не вызвать подозрений, если кто-либо и увидит их издали. И вообще — пора перестать бегать, надо переходить на обычный походный шаг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник]](/books/1063399/dmitrij-gusarov-partizanskaya-muzyka-avtorskij-sbo.webp)

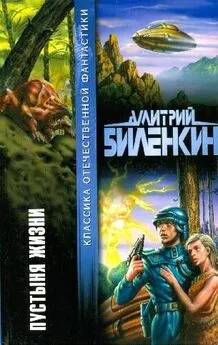
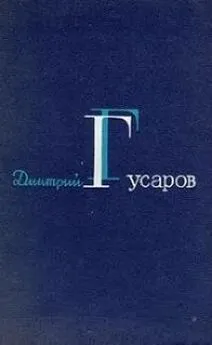
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Сказочка про козявочку [авторский сборник, издание 3-е]](/books/1143226/dmitrij-mamin.webp)