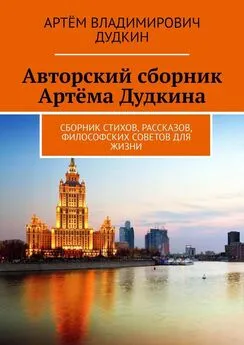Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник]
- Название:Партизанская музыка [авторский сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-270-00041-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник] краткое содержание
О юноше, вступившем в партизанский отряд, о романтике подвига и трудностях войны рассказывает заглавная повесть.
„История неоконченного поиска“ — драматическая повесть в документах и раздумьях. В основе ее — поиск партизанского отряда „Мститель“, без вести пропавшего в августе 1942 года в карельских лесах.
Рассказы сборника также посвящены событиям военных лет.
Д. Гусаров — автор романов „Боевой призыв“, „Цена человеку“, „За чертой милосердия“, повестей „Вызов“, „Вся полнота ответственности“, „Трагедия на Витимском тракте“, рассказов.»
Содержание:
Партизанская музыка (повесть)
Банка консервов (рассказ)
Путь в отряд (рассказ)
История неоконченного поиска (повесть в документах)
Партизанская музыка [авторский сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда часовой от склада ушел, мы осторожно вынули из окна склада стекла, Орлов не без труда залез вовнутрь, а я оставался снаружи. Орлов через окно передал мне 10 винтовок, после чего вылез оттуда, и, взяв каждый по 5 винтовок, мы пошли к моему дому, где поставили их около сарая, а сами зашли в дом.
Два лейтенанта были сильно пьяны, у них в комнате находились две финские женщины, к ним в комнату мы не заходили, поэтому наше появление дома они не заметили. Мы зашли в кухню, где взяли полевую сумку, три лейтенантских френча и три шапки, вернее — две пилотки и одну шапку. Кроме того, я взял еще 150 штук винтовочных патронов, которые один из лейтенантов держал на кухне.
После этого мы вышли из помещения, у сарая взяли все винтовки и пошли в лес, где нас ждали ребята. Там мы каждому раздали по винтовке, а оставшуюся лишней сломали и бросили. Яковлев, Грябин и еще кто-то надели френчи, которые мы взяли у лейтенантов, у них не было финской формы, а все остальные ее имели. Когда все у нас было готово, мы лесом пошли по направлению села Паданы…»
Вот так вот: решили, вернулись, залезли в склад, взяли винтовки, прихватили френчи и полевую сумку с картой и бумагами… Как в сказке!
Наверное, сотни раз вчитывался я в показания участников побега, вглядывался в каждое слово, сопоставлял и сравнивал, узнавал и расспрашивал — и все равно удачливая до неправдоподобия история с добычей оружия повергала то в жар, то в холод.
Казалось бы, чего еще надо? Колючая проволока позади, беглецы уже в лесу, продукты на руках, даже одна винтовка и гранаты есть — срывайся и беги как можно дальше, благо осталось еще четыре часа до лагерной побудки, когда уже наверняка все откроется.
Так нет! Понадобились еще винтовки, нужен смертельный риск, потребовалось нахально залезть в склад, который хотя и плохо, но все же был под присмотром. И уже совсем по-киношному выглядит эпизод с кражей офицерских френчей, с гуляками-лейтенантами, с подвыпившими женщинами. Такие эпизоды охотно снимались в годы войны в Алма-Ате для киносборников «Победа будет за нами!».
Однако ни Орлов, ни Каммонен этих киносюжетов не видели и не знали. Они действовали. И была, вероятно, в их действиях не только необходимость, но и своя логика, далекая от киношных целей выставить врагов дураками, а себя героями.
Их давно уже нет в живых, и судить о тогдашней их логике мы можем лишь по поступкам.
Нужны, до крайности нужны были винтовки, а также и полевая офицерская сумка.
Винтовка в руки каждому нужна была не только для обороны, но и для ясного осознания, что вступил он в дело серьезное и отступа назад уже не может быть. По финским установлениям того времени предусматривались принципиально разные наказания за побеги из плена без оружия и с оружием. Побег без оружия рассматривался в административном порядке, как правило, он влек за собой карцер, розги и штрафной лагерь. Иное дело — побег с оружием! Он подлежал военному суду, с последующими самыми крайними мерами наказания. Не случайно в первых же разговорах о побеге Орлов всех предупреждал — бежать надо только с оружием, чтобы вновь не оказаться в лагере.
Конечно же все понимали, что винтовка сыграет свою роль и в том случае, если им удастся благополучно выбраться на свою сторону… Одно дело — просто бежали из плена, воспользовавшись благоприятным случаем! Другое, когда бежали и перешли линию фронта с оружием в руках. Тем более что и винтовки у них — свои, родимые, собранные финнами на местах декабрьских боев 1941 года после нашего отступления за Беломорканал. Восемь трехлинеек системы Мосина образца 1891/30 гг. и две самозарядки Симонова, которые, к сожалению, оказались без магазинов…
Была своя логика у Орлова, и цель стоила риска.
А как же финны? Они-то почему оказались такими простаками и ротозеями, что проворонили сложную и длительную подготовку побега, небрежно несли охрану лагеря да еще вблизи держали склад с трофейным оружием? Неужели режим в их лагерях был столь милосерден, что раненых лечили, в лазаретах выдавали чистое белье, а каждый занедуживший освобождался от работы и направлялся в санчасть?
Нам, привыкшим к страшным картинам изуверства и жестокости, царившим в немецких лагерях для военнопленных, это кажется невероятным.
Но не будем идеализировать условия финского плена. Бесчеловечность немецкого фашизма не может служить эталоном для сравнения. В первый год войны многие тысячи советских бойцов и командиров погибли в финских лагерях, сотни раненых и обессилевших были пристрелены на полях боев и во время этапирования рьяными шюцкоровцами.
Еще в 1943 году в Стокгольме была издана книга датского писателя и военного корреспондента Херсхольта Гансена «По следам войны», в которой рассказывается о поездке автора по оккупированным районам Карелии. Несмотря на дружелюбие к финнам, X. Гансен не в силах скрыть страшной правды о положении военнопленных в посещенных им лагерях. Он пишет, что условия их содержания «несравнимы даже с теми, какие существуют для преступников в цивилизованной стране».
В 1987 году в издательстве «Гуммерус» вышла книга финского историка Эйно Пиэтола «Военнопленные в Финляндии в 1941—1944 годах», в которой автор приводит такие сведения:
За три года войны в финском плену побывало 64 182 советских военнослужащих. Из них — восемнадцать тысяч семьсот человек умерло от голода, холода, болезней и жестокого обращения. Лишь за первый год войны в лагерях погибло семнадцать тысяч… В течение двух лет лагеря советских военнопленных находились в ведении шюцкора. Основываясь на документах, Э. Пиэтола пишет:
«Не зафиксировано ни одного случая, чтобы кто-нибудь из охранников был наказан за жестокое обращение с пленными, зато имеется много фактов, когда наказывали за „слишком мягкое“, человеческое отношение к ним».
Лишь в 1943 году приказом Маннергейма лагеря военнопленных были переданы от шюцкора под начало армейских частей, а при Генштабе учрежден специальный отдел.
Как видим, ход войны внес свои коррективы, а поражение немцев под Сталинградом и на Курской дуге заставило призадуматься над будущим самые горячие и воинственные головы в Финляндии.
На основании мемуаров и печатных сведений можно сделать вывод, что к этому времени в Финляндии сложилась целая система лагерей для военнопленных — пересыльно-распределительные, трудовые, инвалидные, штрафные, женские, лагеря для соплеменников. Условия содержания и внутренний режим в них имели определенные различия, начиная с самых льготных, где содержались «соплеменники», не пожелавшие служить в финской армии, и заканчивая самыми тяжкими — штрафными, которые сами военнопленные неспроста называли каторжными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Гусаров - Партизанская музыка [авторский сборник]](/books/1063399/dmitrij-gusarov-partizanskaya-muzyka-avtorskij-sbo.webp)

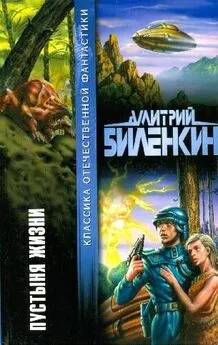
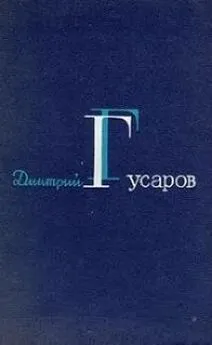
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Сказочка про козявочку [авторский сборник, издание 3-е]](/books/1143226/dmitrij-mamin.webp)