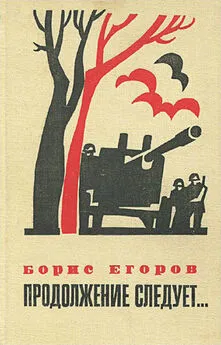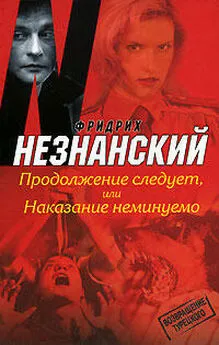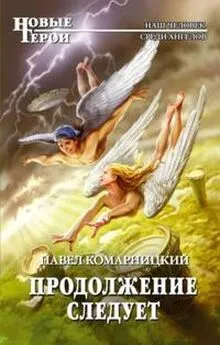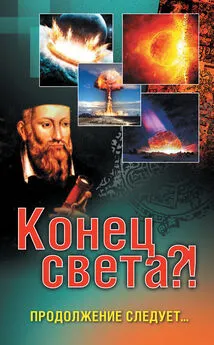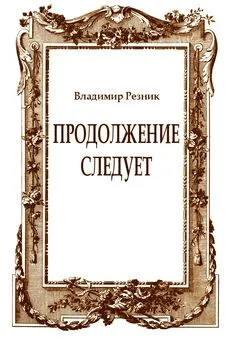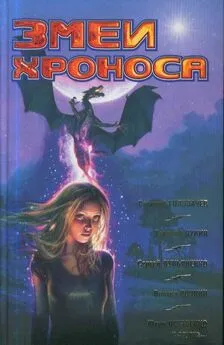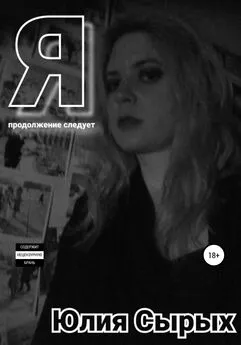Борис Егоров - Продолжение следует...
- Название:Продолжение следует...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Егоров - Продолжение следует... краткое содержание
«Продолжение следует...» — это увлекательный, поэтический рассказ о войне и наших днях, о необыкновенных судьбах людей, о счастье, о месте человека-солдата в строю строителей коммунизма.
Продолжение следует... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Теперь эту мелодию повторяют те, кто заняли место ушедшего на пенсию маэстро Сметаны, — старые мастера огня Ян Колтон, Тадеуш Панек, Войцех Хвая и помоложе: Сильвестр Лукашевич и запасной Константин Малёк.
Все являются многолетними работниками краковской пожарной команды, все имеют музыкальную подготовку.
Работа сигналиста очень трудная. Служба — каждый второй день, 24 часа дежурства на вершине запертой башни. Пятёрка краковских сигналистов любит свою профессию, работает с увлечением. Двое из неё вскоре уходят на пенсию. Кто их заменит?»
Надо полагать, будет конкурс, ибо трубач — самый почётный человек в Кракове.
...Снова иду узенькими чистыми улицами, иду мимо древнего Ягеллонского университета, шагаю Плантами, и я у Вавельского замка.
Он смотрится в Вислу — матерь польских рек, а она, кажется, стоит на месте. Застыли оба как зачарованные. Вавель любуется Вислой, Висла — Вавелем.
В замке полно экскурсантов и туристов. Проходят поляки мимо саркофага королевы Ядвиги, кладут на розовый мрамор цветы.
В сорок пятом я писал о Кракове: «Бедности много. Унылой бедности на фоне замерших, вечных костёлов и монастырей бернардинцев, францисканцев и норбертанок».
Праздные монахи остались. И монашенки с пергаментными лицами и любопытными, острыми глазами: не смотрят, а подсматривают.
А толпа на улице совсем другая. Весёлая и нарядная. В Кракове люди одеты модно. В магазинах к товарам требования предъявляют суровые. Магазинов и магазинчиков много. Торгуют синтетикой и смешными игрушками, старинными предметами и предметами под старину — фонариками, светильниками из кованого чугуна, электрическими «керосиновыми» лампами.
Здесь старину любят.
Когда смотришь на Краков, кажется — он парит над веками.
Бесконечно можно ходить по этому городу-музею, городу готических башен, алтарей, скульптур, ренессансных двориков, окружённых аркадными галереями, домов с богатыми порталами и зубчатыми или волнистыми аттиками. Город, который свято хранит творения великого скульптора XV века Вита Ствоша, архитектора флорентийца Бартоломео Береччи и полотна Яна Матейки.
Но скорее, скорее к дому, что стоит на углу Раковицкой и Любомирской.
Я увидел его — и спазмы в горле.
Дождик октябрьский накрапывает. Мне говорит Дерецкий: «Вернёмся в машину или пойдём в подъезд», а я стою перед домом, сняв кепку и не могу двинуться.
Я пришёл сюда, как на молитву.
Дом такой же, как и был. Только кажется ниже.
Все дома, которые мы видели когда-то давно, в детстве или юности, потом кажутся ниже.
Купол с крестом. Скульптурная группа на библейский сюжет и родовой графский герб — щит с латинской «Эл».
Надписи «Послушание и труд» у входа нет. На её месте вывеска: «Высша школа економична».
Выходят из дверей девушки-студентки в высоких пластиковых сапожках.
Реже стал сад перед домом: вырубили старые деревья, посадили молоденькие, берёзку посадили. Её не было.
А перед «моим» окном, перед окном угловой палаты, где я лежал, остались три сосны.
Я их хорошо помню. И они меня помнят.
Идёт дождик, и бьют часы на костёле пресвятой Марии-панны.
Много раз пробили они за прошедшие почти четверть века.
По этим часам мы жили. И не одному отсчитали они последний час.
За домом — флигель. В этом флигеле была канцелярия госпиталя. Я забрёл однажды туда и увидел на столе стандартные похоронные, такие же, какие посылали с фронта...
Родным Виктора послали, Виктора, моего соседа по койке. Я не простился с ним; ещё вечером он читал в полубреду строки из Гамлета, а утром койка была пуста.
Здесь люди радовались и плакали.
Здесь рождались и уходили надежды.
Здесь совершали на рассвете дежурные сёстры молчаливый и тревожный обход...
И тут, в этих стенах, продолжались бои. Только пахло не порохом, а йодом, карболкой, камфарой.
Арьергард войны... Последний, отставший обоз.
«Эх, скорей бы домой! Другие уже дома. Что же нам делать, ребята?»
И те ребята, которые ходячие, лезут с костылями из окон первого этажа перед обходом главного врача: «Пусть увидит, что мы с врачом говорить не хотим, нам жаловаться не на что. Пусть скорее выписывают».
...Идёт дождь, и бьют часы на башне костёла пресвятой Марии-панны.
Одна берёзка и три сосны — совсем по-русски.
Госпиталь занимал ещё один дом, он через дорогу. Там была главная операционная и первое отделение. Сейчас этот дом жилой, и стоит он по улице Моджевского.
Это бывшая Любомирская.
Тут же, близко, по соседству, и здание, на первом этаже которого помещался маленький универсальный магазинчик, где раненые офицеры тратили свои злотые.
От магазинчика остался лишь чуть заметный след. На забитой двери с облезшей краской еле-еле можно прочитать: «Склеп споживичи. Ян Яновски».
Помните? «...Я посадил бы Гитлера в клетку, возил по Европе и брал деньги...» Он мечтал сделать частную лавочку из истории.
А это не удалось и куда более богатым лавочникам — торговцам пушками, танками и фаустпатронами.
История отсчитывала иное время. Это время понял и повёл за собою человек, который некогда жил здесь, на Любомирской.
Достаточно пройти сотню шагов, и увидишь серый массивный трёхэтажный дом с высокими окнами и двумя балкончиками. У входа установлены мемориальные доски: «В этом доме жил и работал в 1912–1913 годах Владимир Ильич Ленин». «В этом доме под руководством Ленина состоялось совещание ЦК РСДРП(б) 10–14 января 1913 года».
Южная часть Польши называлась тогда Галицией. Галиция находилась во владении Австро-Венгрии.
«Вы спрашиваете, зачем я в Австрии, — писал Владимир Ильич Максиму Горькому. — ЦК поставил здесь бюро (между нами): близко граница, используем её, ближе к Питеру, на 3-й день имеем газеты оттуда, писать в тамошние газеты стало куда легче, сотрудничество лучше налаживается».
Ленин установил отсюда связи с Россией и корректировал курс корабля революции.
Шёл 1913 год. И в Петербурге в этом году произошло событие не очень большое, достаточно скромное, но всё же обращающее на себя внимание.
Судебная палата слушала «дело об уничтожении брошюры „Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии“. Издание т-ва „Знание“». Палата постановила: «Уничтожить вместе со стереотипными и другими принадлежностями тиснений, заготовленными для её напечатания».
И вскоре помощник градоначальника в звании камергера высочайшего двора рапортовал начальству:
«...Имею честь уведомить... что 10 октября 1913 г. уничтожены, посредством разрывания на мелкие части, арестованные экземпляры брошюры „Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии“».
У самодержавия и русской буржуазии к тому времени уже имелся опыт борьбы с марксизмом и с самим Карлом Марксом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: