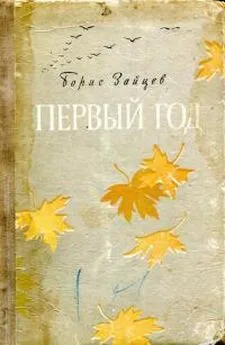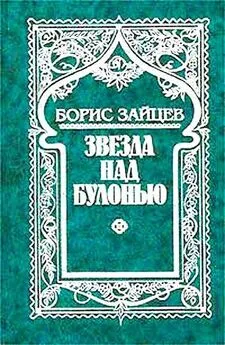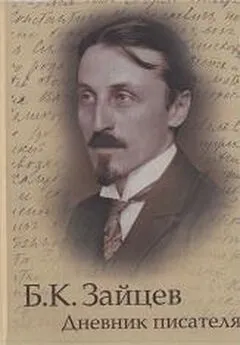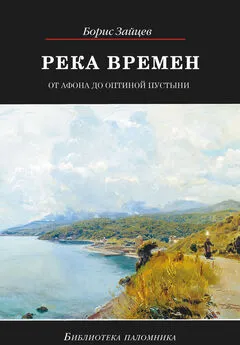Борис Зайцев - Первый год
- Название:Первый год
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Первый год краткое содержание
Родился он в 1921 году в Ростове-на-Дону в семье почтового служащего. Художественной литературой увлекался с детства, а семнадцатилетним юношей сам робко взялся за перо.
Школьный учитель литературы С. Е. Казаков, любитель и знаток художественного слова, давно присматривался к «безусому сочинителю», как он в шутку называл Бориса Зайцева, и незаметно втянул его в работу рукописного литературного журнала «Наше творчество».
Окончив школу в грозном 1941 году, комсомолец Зайцев стремился на фронт. Попытка попасть в действующую армию окончилась неудачей: у него была обнаружена болезнь глаз.
Однако Б. Зайцев нашел способ участвовать в борьбе советского народа против немецко фашистских захватчиков. Он пишет и печатает в газетах стихи, воспевающие подвиги героических защитников Родины на фронте и в тылу.
После окончания в 1946 году Ростовского государственного университета Б. Зайцев преподавал в средних школах хутора Павловка и города Новошахтинска Ростовской области литературу и русский язык. Этот период жизни автор и воспроизвел в повести «Первый год».
Первый год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Зря, Виктор Петрович? Совсем зря! Видите ли, вы все читаете разные методики, статьи и тому подобное. Конечно, печатные методики нужны — я не в том смысле, — их нужно знать! Но этого мало. Я вам скажу одно: методические разработки, по-моему, служат больше для повышения квалификации, для совершенствования, что ли, педагогического мастерства. А вам еще учиться нужно. Вот с этой-то целью вы и обращайтесь к старым учителям, беседуйте и, главное, ходите к ним на уроки. Это та же методика, только не в книжке, а на деле, живая, так сказать, методика. Опыт старших товарищей надо перенимать сразу же, буквально с первых дней. Мы не имеем права работать плохо — понимаете? — не имеем никакого права! Конечно, всякий труд ответствен, а учительский в особенности: ведь в наших с вами руках, дорогой Виктор Петрович, дети — завтрашний день советского общества и всего передового человечества. От того, как мы воспитаем вот этих мальчишек и девчонок, зависит и будущая наука, и искусство, и сама история. Верно вам говорю… Итак, мой дорогой, учите и учитесь. Обязательно побывайте у Ольги Васильевны, у Геннадия Максимовича, да мало ли у кого можно почерпнуть полезное!
Первыми Виктор Петрович посетил уроки Белова (учителя вели один предмет и были уже хорошо знакомы).
— Какими судьбами в нашу смену? — спросил Геннадий Максимович, удерживая в своей руке руку Логова.
— Принимайте меня в пятый класс, Геннадий Максимович: я решил стать вашим учеником.
— Ах так! На уроки ко мне будете ходить? Добро пожаловать!
Со звонком учителя вышли в коридор и направились в класс.
У Геннадия Максимовича была странная походка: когда он шел, его руки, туловище и голова оставались без движения. Лицо Белова, напротив, постоянно менялось: то беглой тенью скользнет по нему легкая грусть; то лукавая усмешка тронет губы; а через мгновение нет ни грусти, ни лукавой усмешки; им на смену явится то заботливо-сосредоточенное выражение, какое бывает у педагога перед уроком, когда его мысли уже в классе, с учениками, ожидающими его.
Геннадий Максимович на ходу оправил галстук и пригладил волосы, хотя они были в полном порядке. Логов незаметно повторил его движения. Белов открыл дверь с табличкой «5-й класс «А», пропустил Виктора Петровича и вошел сам.
Дети уже молча стояли каждый возле своей парты, на которой были приготовлены нужные учебники и тетради. Какой-то белокурый паренек, прячась за товарищей, поспешно застегнул рубаху; другой мальчик наступил ногой на клочок бумаги. Но Геннадий Максимович все заметил, и только он слегка вскинул брови, как смущенный ученик нагнулся и поднял бумажку. Лишь после этого учитель поздоровался и разрешил детям сесть.
Логов занял последнюю парту, положил перед собой блокнот и часы. Уже по началу урока он видел, что Геннадий Максимович полный хозяин класса, что дети любят его и в то же время побаиваются.
В блокноте Виктор Петрович записал:
«1. Обращать внимание на внешний вид учащихся и санитарное состояние класса.
2. Научить ребят готовить все необходимое для урока во время перемен…»
Между тем Геннадий Максимович, не делая переклички (письменный рапорт дежурного лежал на столе), вызвал к доске двух учащихся и дал им по листку бумаги.
— Разделите доску пополам, запишите предложения и выполните все, что требуется. Внизу есть вопросы, — сказал учитель и, не теряя времени, пошел по рядам проверять домашнее задание.
Около одних ребят он задерживался и делал общие замечания; мимо других проходил, почти не взглянув в тетрадь; третьим приказал переписать все заново. Когда Геннадий Максимович обошел весь класс, мальчики у доски закончили свою работу.
— А теперь, друзья мои, обратимся к следующему, — указал учитель на доску. — Терников, читай предложение и вопросы.
Начался грамматический разбор. Геннадий Максимович встал у окна и говорил очень мало: он предоставил это право детям. И вот поднимаются десятки рук, указываются ошибки, возникают споры, приводятся правила. По разгоряченным лицам и по взволнованным голосам видно, что ребятам очень интересно рассуждать и доказывать с а м и м, без помощи учителя, что они ждали этого урока и готовились к нему.
Геннадий Максимович вызывал не только тех, кто хотел отвечать, но и других, по своему усмотрению, вероятно слабых, которые сидели молча. Вызванные чаще всего отвечали невпопад, сбивались, и тогда весь класс дружно ополчался против них.
Белов ко всему прислушивался и все запоминал. Лицо его беспрестанно менялось: при хорошем ответе оно выражало удовольствие, и ободренный ученик говорил уверенней; при слабом ответе оно становилось равнодушным; если же кто-нибудь из ребят начинал городить вздор, лицо учителя приходило в такое смятение, что напутавший ученик умолкал и опускал голову.
Впрочем, разбор продолжался недолго. Выслушав учеников, Геннадий Максимович боком подошел к доске и, водя по ней карандашом, сделал свое заключение. Нескольким ребятам и девочкам, которые отвечали больше других, он поставил отметки. Разобранные предложения переписали в тетради, после чего класс приступил к проверке домашнего задания.
Виктор Петрович был так увлечен ходом урока, что забыл о своем блокноте. Лишь теперь он спохватился и быстро записал:
«3. Уроки русского языка начинать с тренировки учащихся в письме и разборе предложений на определенные правила (подбирать заранее).
4. Научить детей рассуждать самостоятельно.
5. Чаще спрашивать отстающих, если даже они не поднимают рук».
Объяснение нового урока, к удивлению Виктора Петровича, заняло всего девять минут.
Геннадий Максимович прикрепил к доске яркий плакат, но развернул его не до конца, а так, что виден был только заголовок:
«Правописание безударных гласных».
Учащиеся записали в тетради новую тему.
«Замечательно! — восхищался про себя Логов. — Все понятно: ребята в споре и не заметили, что повторили как раз те правила, которые нужны для нового урока».
— Напишите, ребята, слово «тропинка», — говорил Геннадий Максимович, указывая это слово на плакате. — Скажи, Грибкова, на какую гласную здесь падает ударение?
— Тропи-инка. Ударение падает на гласную «и».
— Хорошо, садись. Подчеркните ее одной черточкой и поставьте ударение. А остальные гласные, Миронов?
— Остальные гласные «о» и «а» — безударные.
— Совершенно верно. Подчеркните только гласную корня «о» двумя черточками. Как она произносится в этом положении, Иваненко?
— Тропинка… трапинка… По-моему, как «а».
— Конечно, безударное «о» произносится, как «а». Хорошо! Запишите еще несколько слов: «пятак», «метель». (Геннадий Максимович по ходу объяснения все больше разворачивал плакат.) Итак, ребята, вы обнаружили, что безударные гласные произносятся нечетко, не так, как пишутся. Теперь подумайте, в каком же случае гласные произносятся четко, без искажений. Кто скажет? Ну, Амерьянц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: