Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе
- Название:Мемуары. Переписка. Эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1900-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе краткое содержание
Мемуары. Переписка. Эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возможно, это место и некоторые другие главы моих записок покажутся кому-то излишними. Читатель хочет, чтобы его герой был именно таким поэтом, какого он любит, а сверх того, образцовым семьянином, членом общества трезвости и профсоюза. А легко было пройти фронт, гнить в болотах, быть раненным осколками мины, после госпиталя добиваться и добиться возвращения на фронт, ходить через линию фронта за разведданными и языком? Есть много определений поэзии. У меня есть свое (может быть, не самое оригинальное) определение того, что такое поэт. По-моему, это человек, которым говорит его время, которым говорит вечность. Можно понять, как такой неподъемный груз и формирует, и деформирует личность. О многом можно было бы умолчать. Не только при жизни С., но и позже, до того, как я начал работать над этими записками, я не думал говорить о некоторых вещах. А теперь для меня все изменилось. Я почувствовал ответственность: есть такие подробности, которые, быть может, если я не скажу, не узнает никогда никто. Имею ли я право замалчивать какие-то всплески жизни? Сегодня невозможно решить, что окажется нужным будущим историкам литературы XX века, а что — нет. Как художественная литература — это прежде всего искусство детали, так и история литературы в большой мере опирается на самые разномасштабные детали. Конечно, и я произвожу отбор, скрепя сердце говорю далеко не обо всем. Но особой вольности внутреннему цензору стараюсь не давать.
5
Через несколько лет после войны шел в Москве вечером по Кузнецкому Мосту молодой филолог, в прошлом студент МИФЛИ, позднее профессор И. А. Дубашинский [395] Дубашинский Иосиф Абрамович (1919–2007) — филолог, д. филол. н., профессор Даугавпилсского университета.
. Вдруг он услышал, как идущий следом поздний прохожий читает:
Вспоминаю ажурные плечи,
Приподнятую чуть вуаль,
Серебристую лунность вечера
И песенку «Монреаль».
Он в изумлении оглянулся. Перед ним стоял С., который узнал его, встретив впервые с довоенных лет, и тут же вспомнил его студенческие стихи, шалость пера, позабытую самим автором.
С. помнил много стихов товарищей предвоенной и военной молодости, несколько раз читал их мне, среди них были сильные строки. Жаль, если они оказались незаписанными. А Дубашинский сообщил мне еще несколько более или менее значительных эпизодов из жизни С. — студента МИФЛИ. Вот один из них.
Однажды у них не было лекции, и один из студентов-поэтов Ю. Алексеев предложил устроить поэтическое состязание. Сам он тут же сочинил:
Не соловьям в их пенье подражать —
Кобылою рожден я ржать.
Победителем единодушно был признан Дезик Кауфман за следующее двустишие:
Поэзия — шкура барабанная. Колоти в нее.
История покажет, кто дегенеративнее.
Дезик — так называли С. в детстве, так звали его до самой смерти друзья.
6
С. неоднократно говорил об отношении к Пастернаку, своем собственном и своего «военного поколения», «поколения сорокового года»: в Москве в 1988 году на первых чтениях, посвященных Пастернаку, в нескольких интервью. Схематично можно сказать так: перед войной юные поэты ценили Пастернака высоко, во время войны и даже после нее он отодвинулся для них на второй и даже на третий план, и только после его смерти пришло подлинное понимание его значения. Много пишут о причинах выступления Б. Слуцкого против Пастернака в нобелевские дни 1958 года.
Однажды С. мне рассказал, что Слуцкий вообще относился к Пастернаку спокойнее, чем многие другие поэты из его поколения. Перед самой войной, когда С. и его друзья были совсем молодыми начинающими поэтами и, как полагается молодым начинающим поэтам, обивали пороги редакций и издательств, они с Борисом Слуцким сидели в приемной главного редактора издательства «Советский писатель» в длинной очереди. Открывается дверь приемной, входит Пастернак под руку с Мариной Цветаевой. Он привел ее, чтобы выхлопотать ей переводы: по возвращении в СССР ей не на что было жить. Не замечая очереди, он направляется в кабинет главного редактора. Дальше речь Самойлова передаю почти дословно:
— Тут Боря вскакивает и устремляется к Пастернаку, чтобы его остановить и предложить занять очередь. Ему уже тогда было свойственно стремление к справедливости. Насилу я его удержал.
Теперь известно, что Слуцкого вызвали в райком партии и предложили выступить под угрозой исключения, а он не мог уйти из партии после XX съезда, когда надежды на установление социализма с человеческим лицом казались оправданными. Но в разговорах со мной С. называл и другую причину. Он объяснил, что Слуцкий выступил, конечно, под страшным нажимом. Но и при этом нажиме он смог выступить против Пастернака потому, что в конце 50-х, как и многие из их поколения, крупно недооценивал поэзию Пастернака. Он думал, что, жертвуя Пастернаком, спасает оттепель. Хотя, казалось бы, ясно, говорил С., чего стоит такая оттепель, которая губит лучшего поэта.
Перед выступлением Слуцкого на том злополучном писательском собрании один из друзей предупредил его:
— Смотри, будь осторожен.
Предполагалось, что Слуцкий станет защищать Пастернака, и опасались за него.
— Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно, — ответил Слуцкий. И выступил против. Остальное хорошо известно.
Для самого С. в ту пору Пастернак оставался на периферии внимания. Однажды он с друзьями и приятельницами посетил в Переделкине О. В. Ивинскую. Впоследствии я неоднократно имел возможность убедиться, что С. великолепно знал и понимал поэзию Пастернака, эпиграф из «Высокой болезни» он взял к одной из своих поэм [396] Речь об эпиграфе к первой части поэмы «Юлий Кломпус».
, но интимно близок, как, например, Пушкин, Пастернак ему не был.
7
В 60-е годы С. короткое время состоял в приемной комиссии Союза писателей. На одном из заседаний он сказал, что X нельзя принимать в Союз, потому что он стукач.
— Кого он заложил? — спросил председательствовавший секретарь.
— Такого-то, — ответил С.
— А кто это? Я что-то такого не знаю, — сказал секретарь.
Ему стали объяснять члены комиссии:
— Ну маленький такой.
— Ах, ма-а-аленький… — протянул секретарь.
— А маленьких что, можно закладывать? — спросил С., сам бывший отнюдь не гигантского роста.
Все засмеялись, и стукач не был принят. Через некоторое время при новых «выборах» С. не был введен в приемную комиссию, а стукач [397] Запись в дневнике от 24.12.1968: «Приемная комиссия. Провокатор Грачевский провален. Противно» (ПЗ. Т. 2. С. 44). Грачевский Юрий Маркович (1919–1987) — участник «тимофеевской компании», описанной в воспоминаниях И. Кузнецова в настоящем издании — как стало известно впоследствии, был причастен к арестам своих знакомых, в т. ч. М. Кораллова, И. Фильштинского. На приемной комиссии в СП, членом которой в то время был Самойлов, ему это вспомнили.
стал членом Союза писателей.
Интервал:
Закладка:
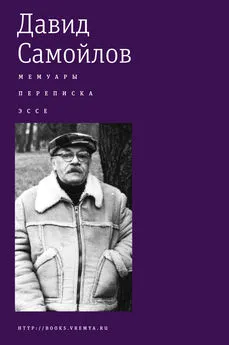




![Давид Самойлов - Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/1143892/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres.webp)

