Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе
- Название:Мемуары. Переписка. Эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1900-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Самойлов - Мемуары. Переписка. Эссе краткое содержание
Мемуары. Переписка. Эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда он работал над поэмой «Сон о Ганнибале», то запросил меня, не было ли в XVIII веке ударения «кондукт о р» в этом новом для русского языка слове. Я подтвердил догадку С. Он ответил: «Дорогой В. С.! Спасибо Вам за кондукторов. Почему-то горжусь этой небольшой догадкой. И уже заранее этих кондукторов поставил в рифму» (12.05.77).
После моей беседы с С. о рифме эпох — стихов я прочитал воспоминания Л. Озерова о поразительно близком по смыслу его разговоре с Твардовским. «Он говорил мне в аудитории перед лекцией Б. В. Неймана [404] Нейман Борис Владимирович (1888–1969) — литературовед.
: — Люблю рифмы типа “реки — орехи”. Не “реки — веки”, а так, чтобы аукался звук не тождественный и равный по происхождению: “к — х”. Не “реки — веки”, не “орехи — огрехи”» (Воспоминания о Твардовском. Изд. 2-е. М., 1982. С. 129).
10
Письма С. сохранили ряд отзывов о наших современниках — поэтах, литераторах, ученых. Об одних сочувственные, о других иронические. Были у С. завистники-недруги, нападавшие на него в печати под разными предлогами, а в сущности потому, что он был еврей. Он никогда не отвечал им публично, они стоят вне закона (вне нравственного закона). Я считаю невозможным приводить здесь его иронические замечания из писем и наших разговоров. Кадить мертвецу, чтобы живых задеть кадилом (по бессмертному выражению Баратынского), — дело недостойное. Я лучше приведу несколько сочувственных отзывов С. о людях, которые чем-то были ему симпатичны. В этих отзывах, при всей их краткости, видны не только его друзья и знакомые, но и он сам.
«Большую радость получил от “Избранного” Горбовского, которое он мне прислал [405] Горбовский Г. Я. Избранное. — Л.: Худож. лит., 1981.
. Это большой поэт. Наверное, напишу и о нем» (26.08.81).
Следующее письмо нуждается в довольно пространной преамбуле. Помню, как понравилась мне поэма С. «Чайная», сначала пришедшая ко мне в машинописи, потом опубликованная в «Тарусских страницах». Позже я узнал от друзей молодости С., что после войны он любил сочинять пародийные жестокие романсы, подбирать к ним несложные мелодии и петь на вечеринках, подыгрывая себе на гармошке. В этом было и ощущение единства с калеками — товарищами по оружию, под жалостливое пение собиравшими подаяние в поездах и чайных, и насмешка над собственной сентиментальностью. Из этих настроений и выросла поэма С. Отдавая должное маленьким поэмам С., я уверен, что в них он не стал вровень с собственной лирикой. 400 коротких стихотворений, написанных за полвека, — вот главное дело его жизни.
А. Кушнер — воинствующий лирик. Совсем другого склада, чем С. Он полагает, что к XX веку жанр поэмы вообще себя изжил. Поэзия — это сокровищница остановленных мгновений, прекрасных уже тем, что чувственно восприняты и взволнованно осмыслены. Фабуле же место в романе, воспоминаниям — в мемуарах («Литературная газета», 1985, 17 июля).
Теперь обратимся к письму С. «На “Весть” получаю разные отзывы, в основном — сочувственные в разной степени. <���…> Саша Кушнер признал меня эпиком. А лирика, говорит, слабоватая. Ее он оставляет себе. Ну что ж! Пусть будет Сумароковым, а я потяну на Хераскова» (07.07.78).
С. не мог быть безразличен отзыв Кушнера, которым он поставил под сомнение главное дело жизни С., признал его эпиком, тогда как стихотворный эпос вообще считает анахронизмом. Но С. не дал место недоброму чувству и написал об этом вполне добродушно!
Так случилось, что в течение одной недели я провел вечер в обществе С. и вечер — в обществе Кушнера. В моем дневнике есть две записи. «При всей сложности их поэтической генеалогии Кушнер — неоклассик, а С. — стыдливый романтик. Когда я при расставании сказал С., что осознал его как стыдливого романтика, он ответил:
— Конечно, романтик. Конечно. Только, по-моему, не стыдливый, а довольно бесстыжий.
И лихо подкрутил свой почти не существующий ус» (30.03.86). Другая запись: «С. в синих “штруксах” [406] Штруксы — в данном случае вид вельветовых штанов.
и потрепанном свитерке — и Кушнер в тройке, при галстуке» (31.03.86). Так они выступали на своих поэтических вечерах.
В одежде тоже проявилась разница между моим стыдливым романтиком и неоклассиком. За полтора года до этого у меня случился разговор с Кушнером, интересный сам по себе и показательный для его отношения к С. Вот запись из моего дневника 1984 г.
«16-го августа вечер у Кушнера с 7 до 12. Кушнер божественно субъективен. Из этой субъективности родится его поэзия, стало быть, он прав.
Там жили поэты, и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.
Кушнер . Когда пишешь, за тобой стоит все, написанное тобою раньше. Пишешь не на ровном месте. Продолжаешь свое дело. И одновременно как-то помнишь все, что написано другими до тебя, как-то оно все здесь. И непременно ставишь себе какие-то формальные задачи. Написать в чем-то так, как никогда не писали до тебя. Потом окажется, что это самое давно уже как-то иначе уже было, но когда пишешь, ставишь задачу написать впервые.
В поэзии останется то, что принадлежит к древу классической традиции. В нашем веке немного: Анненский, Ахматова, Мандельштам, Ходасевич, Кузмин, Бродский. Что к нему не принадлежит — отсохнет. После революции казалось, что надо создавать новую поэзию, — и как провалились они все! Светлов, Сельвинский, Луговской…
Я. Асеев.
Он . Асеев!
Я. А Багрицкий?
Он. Даже Багрицкий. Что-то в раннем было. От Киплинга.
Я. От Гумилева.
Он . От Гумилева, от Киплинга.
Я . Некрасов принадлежит к древу классической поэзии.
Он (горячо) . Еще бы! К самой сердцевине.
Я. А Твардовский?
Он. Нет. Кроме нескольких последних стихотворений. Время давило на них. И на Пастернака. “Сестра моя жизнь” — единственная в поэзии двадцатого века книга. Неповторимая, неподражаемая. А потом… Эти кубики-четверостишья четырехстопного ямба. Зачем Евангелия перелагать в стихи? Есть, конечно, и здесь несколько настоящих стихотворений.
Я. “Август?”
Он. Гениальное стихотворение. Но в остальном — высокая риторика. ( Усмехаясь. ) Не относящиеся к древу классической русской поэзии дали в свою очередь какое-то подобие традиции. Слуцкий, Самойлов, Межиров… Однажды Берестов пришел к Пастернаку на дачу, он выбежал к Берестову на крыльцо и воскликнул: “Какая микроскопическая разница между ними! Межиров, Самойлов, Берестов… Ох, кому я это говорю?!” Это он нарочно, конечно.
Самойлов — как это длинно, вяло, растянуто, повествовательно! Кроме нескольких стихотворений: “Папа молод, и мать молода…”, “Сороковые” (хотя и это от Блока, он сам говорил). А все эти “Залив”, “Волна и камень” — какая скука! ( Брезгливо .) Этот назойливый пушкинизм, эти тягучие пушкинские ямбы!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
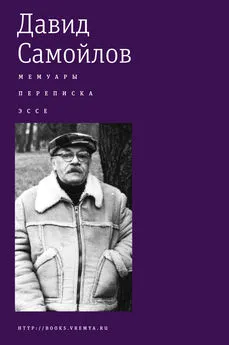




![Давид Самойлов - Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/1143892/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres.webp)

