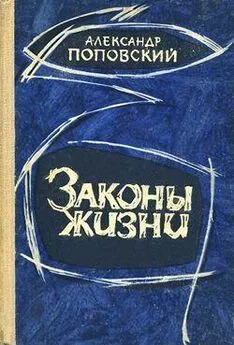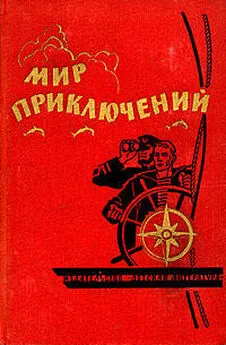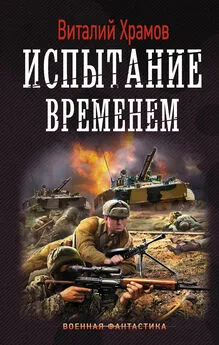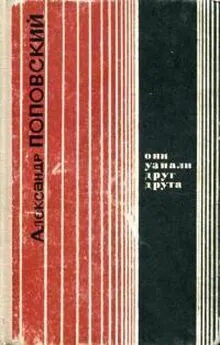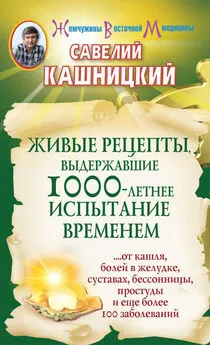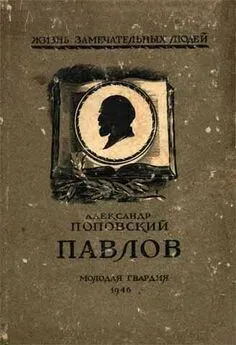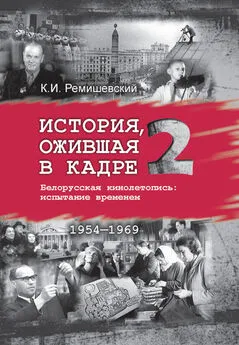Александр Поповский - Испытание временем
- Название:Испытание временем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Поповский - Испытание временем краткое содержание
Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом. Однако наступает день, когда измученный юноша бросает горькие упреки богу и богатым сородичам.
Действие второй части книги происходит в годы гражданской войны. Писатель откровенно рассказывает о пережитых им ошибках, о нелегком пути, пройденном в поисках правды.
А. Поповский многие годы работает в жанре научно-художественной литературы. Им написаны романы и повести о людях науки. В третьей части книги он рассказывает о том, как создавались эти произведения, вспоминает свои встречи с выдающимися советскими учеными.
Испытание временем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Посоветуйте, Алексей Дмитриевич, литературу, чтобы приблизиться к вашим идеям.
— Читайте Пушкина, — последовал совершенно серьезный ответ.
Не нравилась окружающим порывистость профессора, говорил он и делал все рывками, точно внутренняя напряженность сотрясала его. И еще вызывала улыбку необычная манера выражать удовольствие: чуть усмехнется, вскинет плечами и сделает несколько энергичных телодвижений, напоминающих движение пловца или человека, которому тесно в собственной шкуре.
Стало известно, что у молодого ученого два Станислава и две Анны за военные отличия в бытность врачом перевязочного отряда. Узнали также, что он играет на виолончели и в трудные годы гражданской войны музыкой добывал себе средства к жизни. Киновладелец Донателло, он же Дон Отелло, пригласил в свой ансамбль профессора-виолончелиста, доцента-скрипача и студентку-пианистку.
Поступок этот нашли несовместимым с традициями университета.
— Согласитесь, Алексей Дмитриевич, — убеждали его, — студенты перестанут вас уважать. Профессор топографической анатомии и оперативной хирургии в роли сотрудника увеселительного заведения!
Этический спор был разрешен профессиональным союзом, он снял ученое трио с подмостков кино, как лиц, непричастных к союзу Рабис.
Иркутский профессор понравился Павлову. Он увидел в нем мастера изобретать операции, искусного хирурга-экспериментатора. Даже порывистость, манера внезапно и решительно впрягаться в работу, ставить острые проблемы, не подготовив к ним путей и подхода, нравилась Ивану Петровичу. Он и сам был такой — бурный, увлекающийся, но в свое дело не вносил такой напряженности. Не могло Павлову не понравиться и другое: помощник склонен был видеть в центральной нервной системе основной рычаг благ и бед организма. Присвоение этой системе болезнетворной роли в заболевании впоследствии дорого обошлось Сперанскому.
Диспут в Доме ученых был не первым публичным столкновением противников. Он повторялся всюду, где для этого возникал малейший повод. До известного пункта оба лагеря клялись, что остаются верными общепринятым канонам медицинской науки. Они согласны, что пребывание возбудителя болезни в тканях организма не всегда предвещает болезнь; что у больного, перенесшего дифтерию, долго еще из зева выделяются дифтерийные палочки; есть немало бациллоносителей, которые не болеют от собственного заразного начала. Верно также, что органы и ткани, перенесшие страдания, в будущем уязвимы и могут вновь переболеть, как бы далеко от них ни отстоял новый очаг болезни.
Из этих бесспорных положений Сперанский делал еретические выводы. Спокон века считали нервную систему чувствительным стражем человеческого здоровья — и вдруг вчерашний друг объявлен союзником болезнетворного микроба. Возбудитель болезни не столь уж опасен, он только зачинает страдание, дальнейшее развивается по особым законам. Иммунные тела, антитоксин могут устранить причину болезни, но не помешать ее дальнейшему развитию. Уязвленная нервная система продолжит то, что начато возбудителем страдания. Этим не ограничится добрая услуга былого стража, он сохранит след недавней болезни и при малейшем неблагополучии повторит минувшее заболевание.
Спорная доктрина обретает немало друзей, лаборатория Сперанского становится отделом и, наконец, институтом экспериментальной патологии. Сюда стекаются ученые и клиницисты, чтобы разрешить свои сомнения, усвоить новое учение. Сперанский взбудоражил страну, заронил беспокойство там, где царили уверенность и порядок. Число его сотрудников растет, многие готовят диссертации во славу нового учения.
Блистательный взлет научной фантазии продержался недолго. Легче оказалось низвергнуть старые методы диагностики и лечения болезней, чем найти им достойную замену. На невинный вопрос, как новым способом лечить больных, следовал туманный совет: вклиниться в замкнутый круг возбужденной нервной системы и прервать пути болезненных рефлексов. Одно время заговорили, что такой прием удался, введенный в организм углекислый висмут прерывает злосчастные пути болезни рефлексов и даже излечивает туберкулез. Эти слухи, как и подобные им, оказались неверными.
Наступило отрезвление. Институт преобразовали в отдел, а когда автор нового учения тяжко заболел, отдел был вовсе ликвидирован.
Книга была написана и опубликована, но я своим трудом был недоволен и никогда его не переиздавал. Восемь раз книга «Законы жизни» выходила новым изданием, но уже без раздела «Механизмы страданий».
Как объяснить неудачу Сперанского? Или рано судить, наука вернется к оставленному учению, чтобы, обогатив его новыми идеями, заново утвердить?
Есть ученые — подлинные мученики. Им неведомы радости творчества, наслаждение от сознания завершенного дела. Они знают лишь муки, беспредельное чувство тоски. За каждой задачей им видится другая, еще более трудная, неразрешимая. Как можно быть счастливым ничтожной удачей, когда так много возможно неудач.
— В течение всей моей жизни, — говорил Сперанский, — я не знал удовлетворения от работы. Я боялся удач, хотя страстно желал их…
Оставленный прозектором при университете, он вскоре разочаровался, анатомия обманула его надежды, никаких тайн ему не открыла. Жизненные процессы надо изучать на самой жизни. Не расставаясь с анатомией, к которой он привязался, молодой искатель уходит в клинику. Живая ткань ему откроет то, чего уже нет у мертвой. Самое трудное — поставить себе цель, природа сама позаботится, чтобы искомое было обнаружено. Он стал превосходным хирургом. Двадцати шести лет он вызывает восхищение ученых, но и клиника перестает его увлекать, жажда понять глубинные процессы нормы и патологии, жизни и смерти не утолена. У Павлова Сперанский нашел то, чего искал, Иван Петрович вдохнул в него веру, поразил своими ясными планами.
В этой удаче таилась грядущая неудача Сперанского. Он оказался в плену у идей, сковавших его предприимчивую мысль. Исключительный интерес Павлова к господствующей роли нервной системы в процессе пищеварения, в сокращениях сердца и в общении организма с внешним миром так овладел помыслами помощника, что он пренебрег другой универсальной системой — гуморальной: током крови, лимфы и секретов желез. Даже изучая циркуляцию этих жидких сред, Сперанский не столько имел в виду выяснить степень их участия в заболевании, сколько — непричастность. Так ли уж важно, много ли, мало возбудителей болезни в крови? Они сделали свое, уязвив нервную систему, дальнейшее уже с ними не связано.
И все-таки труды русского ученого не канули в вечность. Прошли годы — и до меня дошли вести о работах канадского исследователя Ганса Селье, весьма близких идеям Сперанского. Новое учение обошло весь мир, книги ученого перевели на все языки культурного мира, автора провозгласили реформатором медицины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: