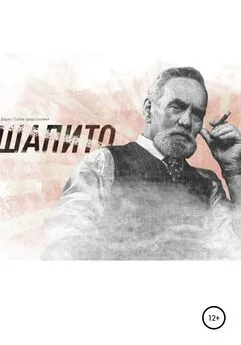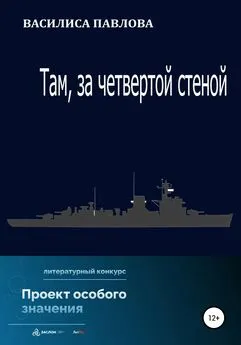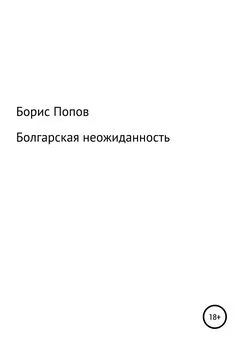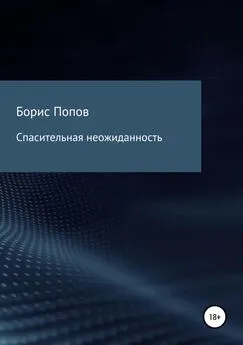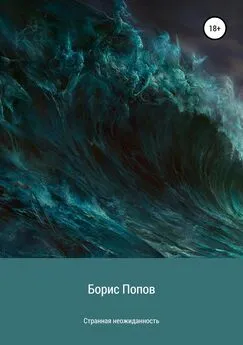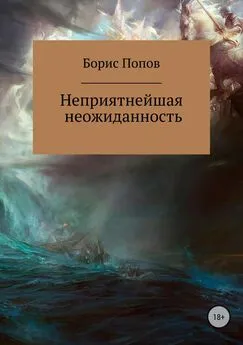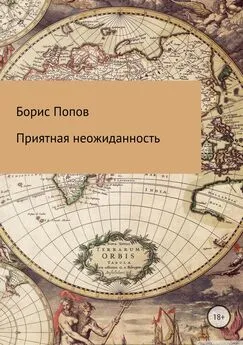Борис Попов - Без четвертой стены
- Название:Без четвертой стены
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Попов - Без четвертой стены краткое содержание
Новый роман Б. Попова «Без четвертой стены» — об артистах одного из столичных театров, которые в силу сложившихся особых обстоятельств едут в далекую Сибирь, в небольшой городок Крутогорск.
В центре внимания автора — привлекательный и вечно таинственный мир актеров, их беды и радости, самоотверженный труд, одержимая любовь к театру.
Б. Попов в своем романе активно утверждает тезис: театр есть не только отражение жизни, театр — сама жизнь. Именно такое понимание искусства и дает его героям силы на труднейший эксперимент — создание принципиально нового театра в «глубинке».
Край, куда приехали Красновидов, Ксения Шинкарева, Лежнев и другие, богат не только своей природой, — здесь, на Тюменщине, идут поиски газа и нефти. Здесь живут замечательные, увлеченные люди, которые становятся первыми зрителями этого театра.
Панорама нашей действительности 50-х годов, те большие события, которые происходили в нашей стране в это время, воспроизведены автором широко и убедительно.
Без четвертой стены - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На классах появились дощечки с надписями:
«Не шуми: ты в студии», «Опоздал — уходи домой», «На репетиции ни звука о посторонних делах».
Лежнев не ощущал великого счастья от назначения его руководителем студии. Воспитал он за свою жизнь не одно поколение актеров, есть среди них и такие, которыми можно гордиться. Например, Шинкарева. Но если честно признаться, то при большой любви поучать, учить радости особой не испытывал. Почему? Много тому причин, одним словом не объяснишь. Главная из них — по-видимому, — высокая ответственность перед студентом.
Судьба его сложилась так, что двадцать лет он совмещал режиссерскую деятельность с преподавательской — стаж, который позволяет постигнуть разницу между режиссером и педагогом. Не каждый, даже многоопытный, режиссер сможет преподавать уроки мастерства, равно и наоборот.
Лежнев любил студентов за их «всёМОГУщность»: им все доступно, ибо «у них есть талант»; но прекрасно знал он и ту роковую слепоту, которая затмевает истинную суть таланта. «ВсёМОГУщность» студента заключена лишь в юношеском обаянии (а кто в юности не обаятелен?), в завидной прелести святого невежества и превратного знания театра. Минует год, минуют два, и слышит он одни и те же удручающие вопли:
— Егор Егорович, у меня ничего не получается, я бездарен. Что делать?
— Если бездарен — уходи.
— Но я люблю театр!
— И люби его на здоровье. Из зрительного зала.
На это студент не согласен. Даже если он до конца изверился: он заражен театром. Он не знает, что любит какой-то выдуманный им самим театр, уютный, добренький, доступный и легкий, а не реальный, огромный, всепожирающий и беспощадный. И тут же парадокс: Лежнев убежден, что театру надо не учить, а заражать. Но педагогу положено учить. Положено! И он учил, противу своих воззрений, учил добросовестно, не отклоняясь от плана, от курса стандартизированных лекций и практических занятий, послушно следуя инструкциям и установкам. И страдал: он исповедовал не то, что составляло суть его, художника и педагога, его взглядов на искусство.
Анализ привел к выводам, что воспитание дарований (а не просто артистических сил) встает чем дальше, тем больше в противоречие со спросом; массовость производства артистов стала основным пороком вузовской системы. Ну, действительно, прославленный боксер долгие годы присматривается к одному, много — к двум ученикам, отдает им душу, стиль, приемы и выращивает их бойцами, превосходящими своего учителя; Станиславский из десятилетнего существования своего предмхатовского театра отобрал только… шестерых! Лежневу приходится выпускать каждый год по тридцать человек. Что он им даст, кроме диплома? В лучшем случае научит первым шагам хождения по сцене.
Вуз готовит актеров, как ширпотреб. А художник, даже в коллективном труде театра, и н д и в и д у а л е н. Со студентом надо повозиться, терпеливо, внимательно, одному внушить уверенность, с другого ее содрать, заодно содрать и спесь; того нельзя хвалить, этого осаживать, иначе он зажмется, у него появится сценобоязнь, партнерострах. При таком скрупулезном подходе к каждому студенту педагога на весь курс не хватит. Значит, что успел, то и дал. Курс пропускается через мясорубку четырехлетней программы, фаршируется приблизительными элементами, некоторыми премудростями работы над ролью, и неокрепшими шагами актер или актриса идут в театр. Без мастерства. А без мастерства сапожник не сошьет и ночных шлепанцев.
— Вся надежда на вас, Егор Егорович!
Егор Егорович надежды многих и многих не оправдал и в их падении считал себя виновным. Где малодушничал, где потворствовал самотеку, а то и оценки натягивал. Дабы план не сорвать. Надоело ему все это. Не раз он говорил себе: брось, Егор, не плоди калек, сохрани свою совесть спокойной. Год за годом, и воспиталось в нем качество, чуждое его «я», но защищающее от мук: быть скупым на похвалы, бескомпромиссно требовательным, беспощадно относиться к верхоглядству и успокоенности. Слыл среди студентов сухарем. Его побаивались.
В то раннее утро, когда Красновидов пришел к нему в номер, и произошла короткая, но значительная для обоих беседа — были поставлены точки над многими «и». Но когда зашел разговор о руководстве студией, рукопожатия не состоялось.
— Пусть твоя совесть, Олег Борисович, не страдает, я зря хлеб жевать не стану. Ты моложе меня, над новым делом помучился и потерзался вдоволь, накалился — и остужаться не смей. Берись, Олег Борисович. В помощи никогда не откажу.
Красновидов смотрел на Лежнева горестными глазами:
— Егор Егорович, такая тактика называется «сторонний наблюдатель».
Лежнев отмахнулся:
— Кстати, «Разведчицу Искру» я сегодня ночью прочитал. Сочно, без антимоний. Недостатки сам узришь. Принимайся. Найдя глагол, найдешь все остальное. Тупиков не бойся, тупики помогают думать, они, как тишина перед боем, заставляют собраться с силами. На Искру попробуй Ксюшу. Приглядись, органична поразительно. Ну, давай руку — и с богом.
— Руки не дам, — сказал Красновидов, — в наших условиях, Егор Егорович, каждый должен быть использован до предела своих возможностей, ваши возможности я хорошо знаю.
— Рогов, — сказал Лежнев, — Рогов отличный педагог. Он своих ребят знает, любит, он верит в них, они — в него. Я не педагог, далек от любви и не очень верю.
На пункте «студия» не сошлись.
Красновидов был в одном совершенно убежден: будущее театра зависит от молодых. Но их надо растить, воспитывать. У руководства студией должен стоять высокого класса художник — воспитатель, авторитетный и принципиальный. Таким он видел Егора Лежнева. Но пока не был решен вопрос о руководстве театра, мысль эту Красновидов держал в глубокой тайне. В день, когда кандидатура художественного руководителя была утверждена, Олег Борисович незамедлительно внес предложение на перестановку. Рогова назначить директором театра, а Лежнева — руководителем студии.
Самолюбие Лежнева, конечно, взыграло: почему, дескать, не предупредили, не посоветовались? Самолюбие-то взыграло, но и лестно было ему такое назначение не меньше.
«Ну, Красновидов, не ожидал». Естественно! После того колючего вопроса «а ты сможешь?» Лежнев не сомневался, что Красновидов осерчает, может быть, очень тонко и незаметно начнет его всеми имеющимися в распоряжении худрука средствами притеснять. И вдруг — на тебе!..
Поворчал Лежнев, покуражился, чтобы видели, как нехотя он надевает этот хомут, и пошел собирать студийцев.
Едва поздоровавшись, он сказал:
— Начнем, как говорят, с букваря, с арифметики. Есть правила, которые вам следует помнить до конца жизни. Можете их записать. Но сперва в виде наглядного пособия прочту несколько писем, которые мне присылают сверх меры. Вы увидите, как трагически можно заблудиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
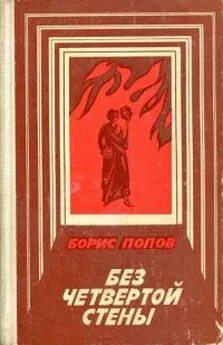
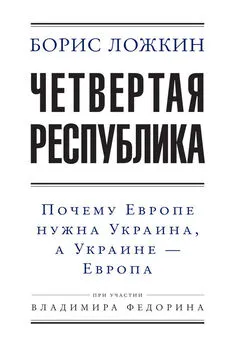
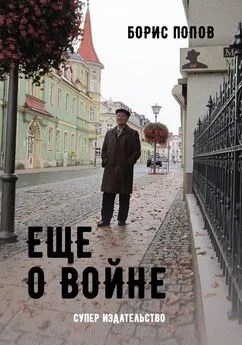
![Борис Попов - Неожиданность. Тетралогия [СИ]](/books/1082707/boris-popov-neozhidannost-tetralogiya-si.webp)