Владимир Солоухин - Камешки на ладони [1982]
- Название:Камешки на ладони [1982]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Солоухин - Камешки на ладони [1982] краткое содержание
Новые (по сравнению с изданием 1977 года) миниатюры-«камешки» имеют подзаголовок *, старые — * * * [прим. верстальщика файла]
Камешки на ладони [1982] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А там ведь еще Мусоргский и Бородин, Бизе и Моцарт, Бах и Вагнер… А там ведь еще все народные песни, все романсы, вся эстрада, в конце концов, начиная с Вертинского. Ну не вся, положим, эстрада, но многое.
Кошмар какой-то! Безвыходное положение.
Потом опомнился: как прекрасно, что не надо никуда улетать, не надо ничего выбирать. Слушай что захочешь и когда захочешь. Счастье.
В одной из уважаемых газет читаю заметку, присланную внештатным корреспондентом из Кургана.
«Весенним днем механизатор колхоза имени Свердлова А. Плюхин, скотник В. Верещагин и пенсионер Д. Гусев поехали в поле за сеном. Местечко травное, расположенное в десяти километрах от деревни Шестаково Частозерского района. Подъехали к стогу и видят: под него ведут две норы. Осторожно прощупали ходы вилами, но ничего живого обнаружить не удалось. Стали складывать на тележку сено. Когда Верещагин поднял с земли последний навильник, тут все увидели маленьких лисят. Выводок оказался на редкость крупным. Четырнадцать штук!
Что же с ними делать, задумались колхозники…»
Вот уж действительно бином Ньютона! Да оставили бы их в покое. Сейчас и ребенок знает, что лиса — полезнейшее животное, особенно в степной местности. Питается она преимущественно мышами. Известно, что убить одну лису все равно что выбросить тонну хлеба. Таков эквивалент. А лисят было четырнадцать. У заметки могло быть другое продолжение вроде: «Пришли на другой день и видят: лисят нет. Значит, увела их лиса в новое место».
Однако колхозники «…решили взять зверьков под опеку. Жители деревни приютили лисят. У механизатора А. Гусева „шевство“ над лисенком взяла кошка, кормит малыша своим молоком».
Экая идиллия! Да кому же не известно, что прирученные зверьки для природы все равно что умерли. Их даже считается жестоким выпускать потом, они все равно погибают. И 14 взрослых лис в деревне не нужны, да они и не вырастут, погибнут одна за другой.
Допустимо и понятно, что механизатор Плюхин и пенсионер Гусев не сообразили оставить лисят в покое, допустимо, что то же самое произошло и со внештатным корреспондентом В. Паниковским, но газете-то, газете-то зачем пропагандировать этот поступок на своих страницах?
Психологическая загадка. Я родился, научился читать и учился в школе, когда была уже введена новая орфография: без «I», без «ѣ» и без твердого знака в конце некоторых слов.
Мои дочери, естественно, тоже родились при новой орфографии. Разница в годах (тридцатые или шестидесятые) как будто не имеет значения.
Тем не менее я, читая книги дореволюционного издания (Гоголя, Тургенева, Пушкина), никогда не обращал внимания на старую орфографию, она никогда мне не мешала, а дочери жалуются, что чтение старых книг для них затруднено, старая орфография им мешает.
Балалайка — народный музыкальный инструмент. На ней играли всегда бренча пальцами, кистью руки.
Теперь виртуозы делают чудеса, извлекают из этого немудреного инструмента бог знает какие звуки. То щипком, то как на мандолине, то на одной струне. Конечно, поскольку есть струны, можно их заставить звучать по-разному. Даже существуют и исполняются со сцен больших концертных залов концерты для балалайки с оркестром.
Все может быть. Но мою душу балалайка трогает только тогда, когда просто бренчат на ней пальцами, кистью руки.
Все же странно, что в «Слове о полку Игореве» мы продолжаем держаться за букву, которая явно возникла по описке при многократном переписывании текста и, может быть, в очень давние, первоначальные для этой поэмы времена. И вот мы держимся за эту букву вопреки поэтической, смысловой и даже формальной логике.
Сказано про Бояна, что он когда сочинял песню, то ширял:
Сизым орлом по поднебесью,
Серым волком по земле,
Мысью по древу.
Мысь по-старославянски — белка. Видим четкую конструкцию с тремя существами (прием троекратного повторения — самый распространенный прием в русском фольклоре) и тремя сферами: орел, волк, мысь, небо, земля, дерево.
И все же из издания в издание печатаем полную бессмыслицу: «мыслью по дереву». Уж если ширять мыслью, то зачем же по дереву? Мыслью можно ширять по земным просторам, по дальним странам, по морям и океанам, по прошлому и по будущему, по звездам… Великое дело — ширять мыслью по дереву!
Мечта и надежда существуют временно, до их исполнения. Как снаряд существует, только пока летит до цели.
Человечество охвачено сейчас, как я бы назвал, вакханалией доступности.
Смею утверждать, что белоснежная гора на Кавказе, сверкающая в недосягаемых высотах и казавшаяся Лермонтову подножием божьего престола, не покажется таковой же, если до нее можно доехать по канатной дороге за 10 минут.
Коралловый атолл, до которого надо было плыть на паруснике несколько месяцев, выглядит для нас иначе, если мы подлетаем к нему на вертолете, затратив на перелет время от завтрака до обеда.
Эта вакханалия доступности пронизывает весь регистр нашего общения с внешним миром от тайны цветка до тайны луны, от женской любви до молнии с громом. Но боюсь только, что со всеобщей доступностью сделается недоступным для нас такое понятие, как красота.
Каков должен быть размер вольеры в зоопарке, чтобы зверь чувствовал себя хорошо, сносно?
Оказывается, размер вольеры не имеет решающего значения для самочувствия зверя, а имеет значение, есть ли убежище, где зверь мог бы спрятаться. Если есть — все в порядке. Походит и спрячется, отсидится и опять выйдет на свет божий. Если же убежища нет, то зверь очень скоро гибнет.
Замечаю, что вся моя жизнь, как движение маятника: спрятаться, отсидеться и опять в суету. Посуетиться и опять в нору, в одиночество.
Говорим о непереводимости поэзии на другие языки. Но поэзия непереводима прежде всего на свой родной язык, то есть на тот язык, на котором стихи написаны. Ведь нельзя стихотворение пересказать своими словами.
В двадцатом веке осуществилось как бы географическое единство мира. Мир стал маленьким и доступным. Расстояния на земном шаре измеряются лишь часами. Но при этом не осуществилось единого сообщества людей на Земле. И в этом одно из главных противоречий современного состояния человечества. Географические расстояния предельно сократились, а общественные, социальные, национальные, государственные, политические расстояния остаются в лучшем случае прежними.
Мы с приятелем обедали в гостиничном ресторане. В этой же гостинице проходила, должно быть, какая-то женская конференция. Когда там объявили перерыв, все женщины, участницы конференции, хлынули в ресторан. Вот и за соседний с нашим стол уселась большая компания возбужденных женщин, то и дело доносились до нас слова: Ливан, перспективный план, прогрессивка, материальная база, генеральная ассамблея…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Солоухин - Камешки на ладони [1982]](/books/1082975/vladimir-solouhin-kameshki-na-ladoni-1982.webp)

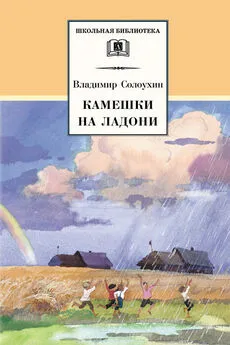
![Владимир Солоухин - Камешки на ладони [журнал «Наш современник», 1990, № 6]](/books/1082974/vladimir-solouhin-kameshki-na-ladoni-zhurnal-nash-s.webp)