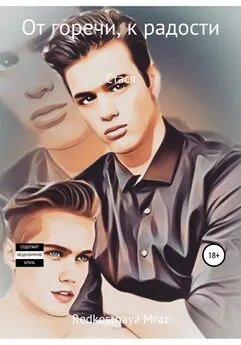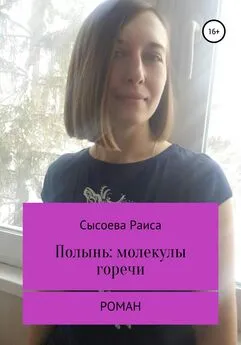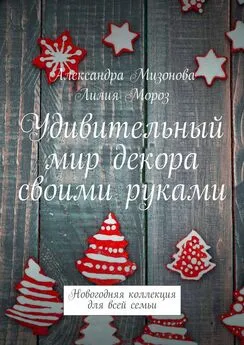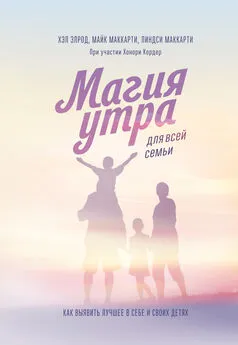Фёдор Непоменко - Во всей своей полынной горечи
- Название:Во всей своей полынной горечи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фёдор Непоменко - Во всей своей полынной горечи краткое содержание
Во всей своей полынной горечи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ОГОРОД
Как-то еще осенью сосед по балкону, отставной военный, ведавший какой-то огородной комиссией, предложил нам участок земли за городом. Соток шесть. «И картошка своя, — ворковал он доверительно, дебелый, плечистый, с мясистыми крупными чертами лица, и было несколько неожиданно слышать в басистом голосе этого дородного человека нежные воркующие интонации. — Опять же — фасоль, лучок и прочая петрушка…»
Идея была заманчивой. Огород — это не столько свежие овощи, сколько ощущения сладости физического труда, уже, к сожалению, утраченные нами, жаркий ветер степи, непраздный обед под открытым небом… Виделось все это в самом привлекательном свете. Мы поговорили на эту тему — хорошо бы, дескать, — и забыли.
А весной, когда началась посевная, пришло по почте официальное уведомление — открытка с обозначением времени и пункта сбора («…общее собрание… Явка обязательна… С собой иметь грабли…»). Сосед держал слово. Но мы, когда настало время действовать, заколебались. И задумались, что же такое огород, не анахронизм ли это и нужен ли он вообще современному горожанину?
Я вспомнил детство — в семье у нас царил культ огорода. Огород — кормилец, огород — это свято, непререкаемо, без него жизнь вообще немыслима. Так считали родители, и теперь я понимаю их: они были выходцами из крестьян, и тяга к земле жила у них в крови. Кроме того, они пережили две голодовки и две опустошительные войны.. В голодном тридцать третьем году мы переехали на Донбасс, и первое, что мне запомнилось из картин тех далеких дней, это огромные брылы земли, вывороченной дружной ватагой земляков-переселенцев в три или четыре лопаты: молодые крепкие ребята становились в ряд и в один прием переворачивали целые пласты чернозема. Помню, как сокрушалась мама, завидев вздыбленный клин: «Бо-оже, что ж я теперь делать буду! Как же тут сажать?!.» Чуть не плача, она принялась разбивать сапкой громадные брылы, и нам, малышам, казалось, что ей никогда не совладать с этим неподатливым куском земли, находившимся сразу за станционным поселком у самого края поля, в конце которого выступали из-за горизонта терриконы шахт, далеких и близких.
В ту пору считалось, что, если есть огород, жизнь идет нормально. Даже потом, когда семья стала на ноги, огород и все, что с ним связано было, занимало в семейных расчетах одно из главных мест. И так было не только у нас — у соседей, квартирных хозяев, знакомых и сослуживцев отца. Все важно было — и где выделены огороды, и далеко ли, и какая земля. Мне сейчас кажется, что в пору моего детства все взрослые только и занимались тем, что возделывали огороды или говорили о них.
О том, что предстоит идти на огород, нам, детям, сообщалось заранее. Мама готовилась к этому немаловажному событию тщательно, и мы слышали, как родители в деталях обсуждали его. Мы ждали похода с радостным нетерпением, точно праздника. И он приходил, этот долгожданный день.
Когда мы просыпались, все уже было готово: рогожная корзина с провиантом, бидон для воды, который мы наполним только в лесу, отточенные с вечера сапки. Нам Оставалось лишь умыться, перекусить, и мы трогались. Праздник начинался с дороги. Путь был неблизкий — надо было пройти один лес, наш, поселковый, затем большой и, наконец, за ним находилось поле, отведенное под индивидуальные огороды.
Миновав железнодорожную станцию и «сортировку», мы спускались в глубину леса по откатке — узкоколейке, по которой непрерывно, день и ночь, двигались вагонетки, прицепленные к стальным тросам. Вверх — груженные углем, еще влажным порой, только поднятым из шахты, по другому пути двигался вниз порожняк. Мы шли по обочине, по утрамбованному до асфальтовой твердости штыбу. По сторонам — лес, а снизу по крутому склону все ползли и ползли бесконечные вагонетки, прицепленные к многожильному стальному канату замысловатым крючком. Зрелище это всегда завораживало нас. Канат то натягивался тугой струной, когда вагонетки шли часто, то провисал, волочился меж рельсами, протирая в шпалах канавки, если на шахтном дворе случалась заминка и вагончики появлялись редко. Когда откатка стояла, это значило, что где-то вагончик забурился, то есть сошел с рельсов. Иногда вагонетка срывалась с прицепа и, набирая скорость, катилась вниз, сокрушая по пути все, что попадалось. Видеть такое ни разу не приходилось, мы знали об этом только понаслышке.
Спустившись по откатке вниз, мы сворачивали, пересекали поселок шахты Шестнадцатой и вступали в старый лес, и сразу будто окунались в иной мир — таинственный и жуткий, несмотря на то, что на глянцевитых тропках плясали солнечные пятна, по бокам тенькали синицы и где-то в глубине леса стрекотали сороки, — лес был незнакомый, он пугал неизведанностью и величием ребячье воображение. Наша тропинка пересекалась с другими тропинками и дорогами, петляла, но все время вела вниз. Оказавшись наконец в глубокой балке, мы, дети, задирали головы, разглядывая в страшной высоте вершины ясеней, дубов и лип, на которых то там, то здесь виднелись сорочьи или вороньи гнезда, такие манящие и такие недосягаемые. В балке мы делали крюк, чтоб выйти к источнику. Вода, чистейшая и холоднейшая до ломоты в зубах, стекала по трубе, вделанной в небольшой водоем, в котором иногда плавал упавший с дерева листок. Мы споласкивали и наполняли бидон ключевой водой, пили про запас, немного отдыхали и двигались дальше.
От родника все время шел подъем, и к этому моменту мы всегда немного уже уставали. Затем кончался лес, и открывалась степь, и сразу вокруг все светлело, теплело. По полям гулял знойный ветер и струилось текучее марево, пели жаворонки и было столько простора, синевы, неба, что душа радовалась. Мы шли по проселку, а вдоль него по обе стороны тянулись огороды с недавно пробившимися всходами картошки, пустынные еще, не отягощенные зеленью, но уже закурчавившиеся. На каждом была воткнута табличка с обозначением организации и владельца. Таблички — на дощечке или куске фанеры, прибитом к палке, — еще не выгоревшие от солнца, не слинявшие от дождей, и написаны они были то старательно, то кое-как, то краской, то чернилами. Мы читали их, смеялись над смешными фамилиями. А потом появлялись среди них и знакомые, и наконец еще издали мы узнавали и нашу, узнавали сразу, потому что видели, как дома мастерил ее отец — строгал, прибивал гвоздями и писал химическим карандашом, глянцевито-круглым, отливавшим фиолетовым блеском зрачка на тупом торце, тщательно вырисовывал буквы, макая средний палец в кружку с водой и увлажняя поверхность фанерки под строчку.
Мы с братом исторгали радостный вопль и бежали смотреть табличку, удивляясь тому, что посреди поля так далеко от дома стоит она, предоставленная солнцу и ветрам, охраняя наш огород, и что на ней не чья-нибудь, а наша фамилия. Нам казалось это почти чудом. Тем временем отец и мать, оставив сапки и корзину, обходили участок, рассматривая, что и как взошло. Мама будто молодела, светлела лицом, освобождая какой-нибудь сморщенный, силившийся пробиться росток от придавившего его, потрескавшегося на ветру комка: «Ах вы, мои маленькие! — приговаривала она, разгребая землю и оправляя ростки. — Сейчас мы вам поможем…» Она относилась к всходам как к маленьким детям. Нас поражало таинство превращения брошенного в почву семени в растение: всего несколько недель назад здесь было совсем пустынное поле, усеянное лишь прошлогодними почерневшими кочерыжками кукурузы и подсолнуха, и нам казалось, что вырасти на нем ничто не сможет. И вот теперь… Иногда мы с братом тайком подрывали какое-нибудь растение, уже выбросившее листочки, чтоб удостовериться, в самом ли деле произросло оно от брошенного зерна, и убеждались, что это действительно так: в глубине земли на хилых белесых нитях корешков висели раскрывшиеся половинки фасоли или сморщенный мешочек кукурузного зерна. Не диво ли? И как это случилось, какой механизм заложен в безжизненном, казалось бы, зернышке?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
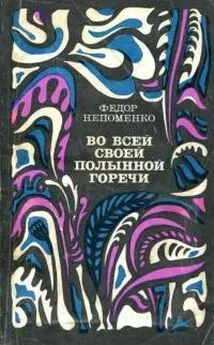
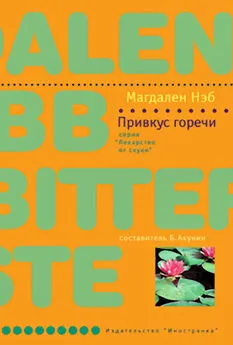
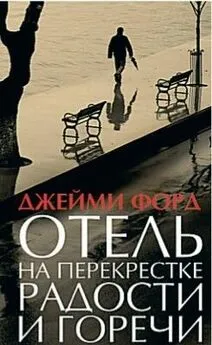
![Игорь Федорцов - Дождь в полынной пустоши. Часть вторая [СИ]](/books/1078359/igor-fedorcov-dozhd-v-polynnoj-pustoshi-chast-vto.webp)
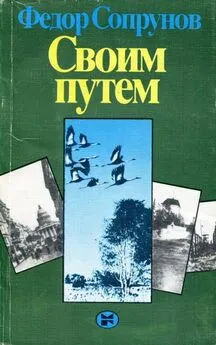
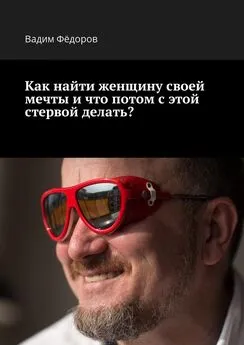
![Игорь Федорцов - Дождь в полынной пустоши [СИ]](/books/1097531/igor-fedorcov-dozhd-v-polynnoj-pustoshi-si.webp)