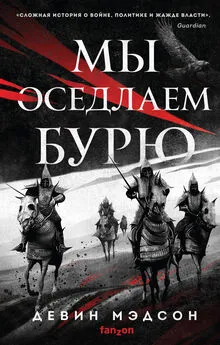Илья Девин - Трава-мурава
- Название:Трава-мурава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Девин - Трава-мурава краткое содержание
Национально-самобытные характеры современников, задушевные картины природы, яркие этнографические подробности делают книгу И. Девина интересной для широкого круга читателей.
Трава-мурава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Узнал об этом парень по имени Урань, сын одного бедняка нашего. Пришел на сход он, низко поклонился народу и сказал: «Пошлите меня, люди добрые, я укрощу огненного коня. Жизни своей не пожалею, но не будет он больше губить наши покосы…» Посмеялись мужчины смелости юноши, но всерьез его слов не приняли. Мол, молод ты еще против этого коня. А Урань настаивал на своем: «Поверьте мне, люди добрые, обуздаю я коня…» Мужики даже рассердились на Ураня, велели его отцу отослать сына домой, чтобы он не мешал сходу думать, как избавиться от огненного коня. Но Урань остался верен своему слову. Никто не видел, когда, в какое время пошел он на луг. Пошел и — день его нет, второй нет. На третью ночь слышат люди: на лугу конь заржал. Заржал так, что земля задрожала, дубы и березы зашатались, к земле пригнулись. А в небо взвился огненный столб!..
Цямка вздохнула и замолчала. Прохор подождал-подождал и спросил:
— Ну, а чего дальше-то было?
— А что дальше, — просто ответила Цямкаиха. — Никто с той поры не видел Ураня ни в селе, ни дома, ни на сходе. Исчез Урань, будто в воду канул. Но исчез и огненный конь. А через луг потекла речка.
— Ну! — воскликнул изумленно Прохор. — Эта, что ли, самая?! — и показал кнутовищем на блестевшую внизу, среди изумрудного безбрежного луга белую и искрящуюся под солнцем, как серебро, речку, которую он знал с детства. — Эта?
— Эта и есть, — спокойно сказала Цямка и, покосившись на Прохора, улыбнулась. Она, видно, подумала: такие же вот мужики, как Прохор, на сход тот собирались.
— Ну, а потом? — не унимался Прохор.
— А потом вот и назвали село наше Урань, и речку — Урань, и луг — Ураньжайский, сами люди и назвали — так на сходе решили, ну вот, а теперь мы с тобой тут вот и живем.
— Да-а, — сказал только Прохор и покрутил головой.
Скоро под колесами прогремел мостик, и вот они уже въезжают в Урань…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая
Вторая послевоенная осень, осень 1946 года… Только в войну знало село Урань время тяжелее этого. Прошлогодний урожай казался чем-то фантастическим, и Сатин с Лепендиным не раз вспоминали прошлогоднюю ночную молотьбу и тугие от зерна мешки, похожие на откормленных поросят…
Но вот странное дело: не было в людях угнетающей тревоги и напряжения, которые лежали на плечах все военные годы. И наблюдательный глаз мог уже заметить, насколько веселее стали смотреть окна домов, как чаще улыбались люди при встрече.
— Не война, как-нибудь проживем, — говорили мужики, успокаивая друг друга. — Может, картошки нарастет, огурцов насолим, — проживем…
Да вот еще была невидаль — проводили в Урань радио: уже ямы копали, ставили столбы.
О радио в Урани уже знали: некоторые фронтовики привезли детекторные радиоприемники, сделали из высоченных жердей антенны, и с этими антеннами как будто поднялось и все село.
Был детекторный приемник и у Михаила Пивкина, и он почти все свободное время сидел на конике за голландкой с наушниками на голове и слушал. Вечером, ложась спать, он опять же надевал наушники и, пока не засыпал, слушал разные известия. И утром он тут же сообщает жене самые свежие новости из Москвы или Саранска. Но случается, что ни жены в доме нет, ни дочери Груши, а он все равно кричит из-за голландки: «В Туле снова начали делать самовары!..» Или: «Черчилль выступал в палате лордов!..»
Особенно же Пивкин любил слушать известия, которые касались тех мест, где ему пришлось воевать: Гомель, Брянск, Орел, а потом, после госпиталя, попал уже на юг, на Дон, в Пятую Ударную, в 327-й гвардейский полк, во взвод разведки. И — Макеевка, Донецк, а там — желтая, осенняя, но по летнему еще знойная Украина, Запорожье… И вот когда по радио сообщают о рекордах шахтеров, о новых шахтах, то Михаил Семенович Пивкин, лежа за голландкой на конике, видит темные островерхие горы среди степи, которые называются терриконами, видит шахтерские поселочки, из маленьких, но уютных домиков с верандами, с желтыми шляпами подсолнухов вдоль заборов…
Вот так однажды утром Пивкин лежит в наушниках, и вдруг передают, что на Днепрогэсе имени Ленина закончены основные восстановительные работы!
— Ура-а! — крикнул он. — Ура-а!..
Матя, уже привыкшая к подобным неожиданным воплям мужа, уже не боялась, не пугалась за Михаила, не считала, что он свихнулся, но теперь немножко удивилась, однако, необыкновенно энергичному крику.
— Ты чего там? — спросила она.
Но разве перекричать даже Мате тот неслышный голос в наушниках? Нет, не перекричать. И она, махнув рукой, занялась своими делами. Впрочем, и сам Пивкин после сообщения о Днепрогэсе ничего не слышал в наушниках, хотя они были у него на голове: ему вспоминались в отрывочных и несвязных картинах черные сентябрьские ночи в Приднепровье, белый блеск ракет на черной воде, разбитые переправы, желто-гнойный огонь горящего на плотине грузовика и в этом огне — мелькающие, призрачные тени бегущих по плотине ребят из взвода разведки… Или тот понтонный мост через речку Ингули под Николаевом!.. Велика ли речка — не больше, пожалуй, нашей Урани будет, а как дорого досталась та переправа!.. Нет, не может Михаил Пивкин спокойно вспоминать этот мертвый свет повисших над головой ракет, этот леденящий вой авиабомб, понтоны, вставшие на дыбы, мягкие комья мартовской земли… В ту весну, там, на Южном Буге, ему особенно часто вспоминалась Урань, первая колхозная весна, когда он пахал на старом быке, потому что был еще молод, а лошадей и опытным, старым пахарям не всем доставалось — столько было народу тогда!.. И все думал о Мате, о Груше, воображая жену почему-то старой уставшей женщиной (может, именно такой она невольно представлялась по тем письмам, которые Пивкин получал из дому?), и ему было очень жалко ее. Правда, на самом-то деле Матя оказалась вовсе и не старухой, а точно такой же крепкой, плечистой бабой, с таким же громовым сильным голосом, какой и была в сорок первом, когда Пивкин прощался с ней на станции Ховань, — это просто слова подводили, которые Матя, жалея Михаила, тоскуя о нем и плача, писала на листочке из Грушиной тетрадки… Однажды он так и уснул с Матиным письмом и во сне увидел свой дом, крылечко с резным столбиком, увидел себя, окапывающим яблони.
Ах, какой это был сладкий сон на нежном мартовском солнце, на берегу Южного Буга!.. И когда он окапывал яблони в своем саду, то всякий раз, как наклонялся, какая-то капля падала ему на шею, как раз за ворот, и он еще думал: разве у яблони идет сок? Нет, у яблони не бывает такого сока, это у березы… И опять склонялся, давя на лопату осторожно, чтобы не повредить корни, и тут опять ему падает за ворот холодная капля… И вот он говорит: надо посмотреть, может, сломана ветка, делает усилие разогнуться, посмотреть вверх… и просыпается от резкого, яркого солнечного света в глаза. А шея и в самом деле мокра была, потому что уснул он под березой, посеченной осколками. И сон, и явь как-то чудно смешались, и хотелось досмотреть сон, потому что ведь там должна была вот-вот появиться Матя с ковшом квасу, он уже слышал ее голос, когда глядел на солнце!.. И вот в досаде, что ему помешали, и в жалости к березе Михаил начал собирать горстью глину и замазывать раны березы, а потом, торопясь скорее уснуть и досмотреть сон, распластал портянку, обвязал березу и опять упал лицом вниз. И он и в самом деле скоро уснул, однако тот сладкий сон не вернулся к нему…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
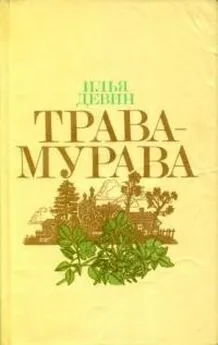

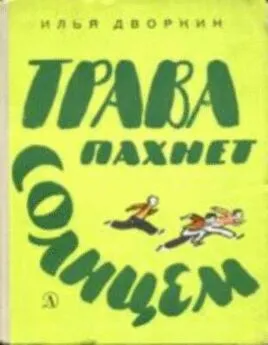
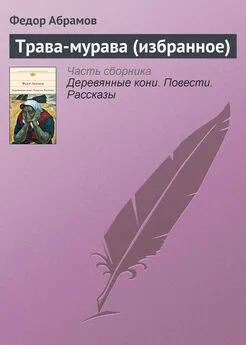

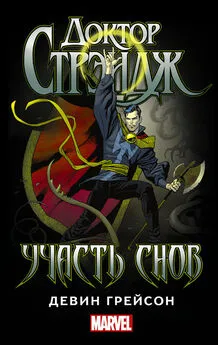
![Девин Мэдсон - Мы оседлаем бурю [litres]](/books/1147256/devin-medson-my-osedlaem-buryu-litres.webp)