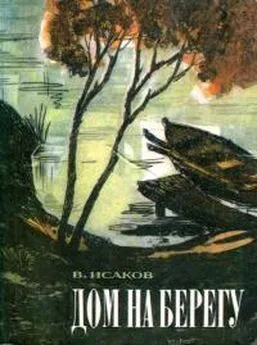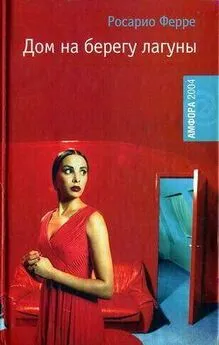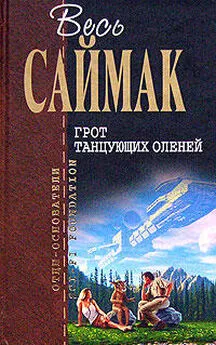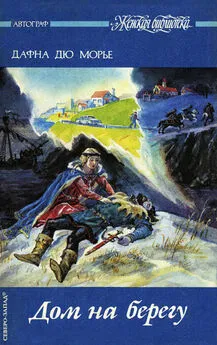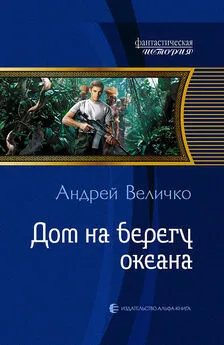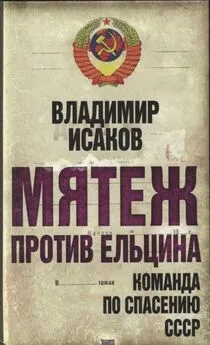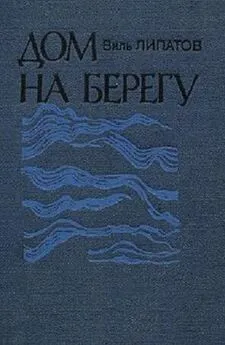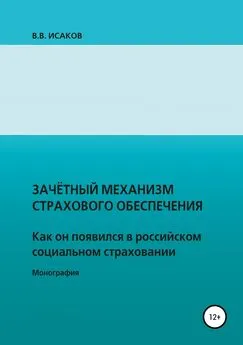Владимир Исаков - Дом на берегу
- Название:Дом на берегу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Исаков - Дом на берегу краткое содержание
Дом на берегу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если судить по названиям, в эту сторону идут сплошные горы: Сафонтьевские, Баранья и другие. Пробираясь сюда первый раз, все всматриваешься вперед, все ждешь: где же горы? Проселок ныряет от перелеска к перелеску, от деревни к деревне. Только проехав несколько деревень с такими горными названиями, начинаешь подозревать неладное: да ведь эти названия — какая-то улыбка, сказка. Зачем уходить под небеса месту, которое скромно называется Баранья Гора?
Баранья Гора открывается вся вдруг, словно висящий над дорогой мираж. Несколько холмов, живописные избы, церковь на горушке. На пригорке возле дороги, под зеленой крышей, издалека виден дом Митрофанова. Мы отряхнули снег с валенок, простучали по сеням, вошли внутрь. В нетопленых комнатах было по-утреннему свежо, зябко. Среди расставленных и развешанных повсюду картин, в накинутом на плечи полушубке сидел сам хозяин и дописывал холст.
Увидев нас, он бросил кисти, принялся обнимать обоих с неподдельной радостью засидевшегося в одиночестве человека. У него были молодые, быстрые движения и голубые, смеющиеся глаза. Мы не успели сказать двух слов, а хозяин уже притащил дров, затопил печку и, грохоча сковородой, принялся что-то выговаривать нам насчет гуся:
— И чего не позвонили… Мол, приедем, Михалыч, готовься. Я бы готовился, гуся зажарил. А сейчас что… Сейчас придется свининки.
— Ладно, Михалыч, — добродушно улыбался Козлов. — Ты лучше расскажи, чем занимаешься. Что это у тебя там на мольберте?
Старик на минуту оставил печку, вернулся к неоконченной картине. На ней был изображен барский дом, парк, наброски пяти-шести фигур у подъезда.
— Вот пишу иллюстрации к Пушкину. Это первый приезд Онегина к Лариным. Сделаю — подарю школе, в Таложню. Все польза.
От Пушкина намечался естественный переход к Тургеневу. Но вокруг было еще немало интересных картин, книг, вещей, гостеприимный хозяин не собирался быстро отпускать нас домой, и мы оставили знаменитую чернильницу под конец, на десерт.
— Скажите, почему у деревни такое странное название — Баранья Гора? — спросил я.
— Бранья Гора, — поправил художник. — Бранья. В Баранью переделали невольно, чтоб удобней произносить. Давно, в двадцатых годах, я нашел в нашей церкви летопись. В ней это место достоверно называется Бранья Гора. Здесь в тысяча двести тридцать восьмом году была брань, то есть битва, с татарами. «Бысть сеча зла», — говорит летописец. Возле деревни осталось столько татар, что от них долгое время шел смрад. Во-о-н то место, называется татарское кладбище…
Пока на сковороде потрескивает сало, художник, уроженец этих мест, продолжает без конца вспоминать местную старину. Память его хранит такие подробности, каких уже давно никто не помнит.
— Здесь кругом раньше было поместье Львова. Не того Львова, что известный архитектор, а его внука. Николай Александрович был умница, а внук зверь. У этого Львова, как рассказывают, на конюшне день и ночь рев стоял. Пойдут бабы жать, свернут в поле за васильками, а он тут как тут. Налетит на лошади, свяжет — и на конюшню, под розги. Доставалось всем. Раз поехал куда-то, а колымага возьми да застрянь. Он и про дело забыл. Потребовал волостного старшину и сам, оставив дела, поехал расправляться на конюшню. Любил это дело… Ну, зато пришло время — самим Львовым тоже было несладко. Все имение по ветру разошлось. Вот от всего поместья сохранилась одна настольная лампа. Купил в деревне у одной старухи…
Иван Михайлович указал на старинную бронзовую лампу с роскошным ампирным абажуром.
— А это мой дед, — он кивнул на стену, где висела фотография крепкого старика с окладистой бородой. — Простой крестьянин, без всякого образования, а каждый год собирал по сто двадцать пудов с десятины. Зато знаете как к земле относился? Поедут пахать. Дед приедет с сохой на пашню, возьмет горсть земли, приложит к макушке. Постоит, подумает. Нет, говорит, сырая. Еще рано, надо обождать. Поедет на другой день. А прежде чем соху запустить, встанет на колени, землю поцелует. Я его все в пример нашему агроному ставлю…
Сын барского егеря из Бараньей Горы, перед революцией Митрофанов приехал в Москву, поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В училище еще жили воспоминания о Бурлюке, Маяковском. Однокашниками И. М. Митрофанова были А. М. Герасимов, Кукрыниксы и другие известные художники. В это же время И. М. Митрофанов стал учеником и близким другом Константина Федоровича Юона.
Творчество Юона знают все. Чтобы дать зрительное представление о доме в Бараньей Горе, можно сказать коротко: Митрофанов — ученик Юона. Весь его дом плотно увешан пейзажами, плотно заставлен старинными вещами, книгами. И каждая вещь, каждая картина, каждая книга, как клавиши рояля, вызывают здесь свой отзвук. Достаточно было прикосновения, как все начинало оживать, превращаться в рассказы о старине, об охоте, о знаменитых писателях и художниках.
Все рассмотреть было невозможно, и мы, оставив гостиную, пошли с художником в мастерскую, взглянуть на его старые и новые работы. Все четыре стены в мастерской, с пола до потолка, были заняты картинами. Всюду лежали кисти, тюбики с краской, старые палитры. Здесь была атмосфера постоянного труда, поэзии, мудрой стариковской любви к жизни.
Мое внимание привлек старинный парк, несколько раз повторяющийся на разных холстах.
— Это парк в Велеможье, — подходя и улыбаясь, объяснил хозяин. — С этого парка, собственно, и началась моя карьера художника.
Иван Михайлович всмотрелся в холст, видимо отыскал какое-то знакомое ему одному место, и продолжал:
— Раз, еще мальчишкой, меня поразила одна художница, приезжавшая на этюды в Велеможье (правильно говоря — Вельможье. Раньше здесь была знаменитая на всю Россию охота Н. П. Кишенского. — В. И. ). До этого я художников никогда не видел. А тут смотрю: сидит женщина на складном стульчике, держит перед собой лист бумаги и что-то рисует. Это была художница Якунчикова, родственница Поленова. Художница побыла и уехала, а я с того самого дня не выпускаю из рук карандаша и кистей.
Он на минуту задумался.
— Уже в Москве, студентом, со мной произошел курьезный случай. Раз захожу в антикварный магазин. Смотрю: ба, Велеможье! И подпись на этюде: М. Якунчикова. Мне, конечно, страшно захотелось его купить. Стоил этюд по тем временам недорого — сколько-то миллионов. Да беда, в карманах у меня не было и ломаного гроша. Несколько дней я все ходил к этому этюду. Все надеялся раздобыть денег. Но однажды прихожу — этюд уже продан. Так мне его было жалко…
Художник помолчал.
— Собственно, что было изображено на этом этюде? Голубое небо. Желтая дорога. Я много раз писал потом этот вид. Но у меня он не получался так, как у Якунчиковой. У нее все было как-то яснее, чище. Такой, знаете, праздник для души. По-моему, этот праздник — цель и великая загадка нашего искусства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: