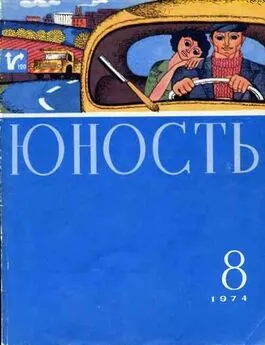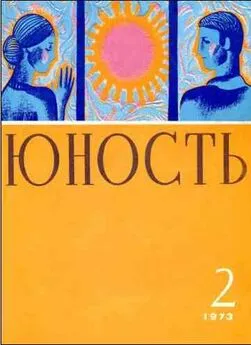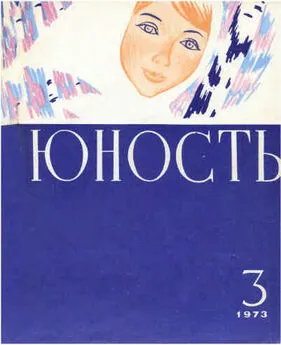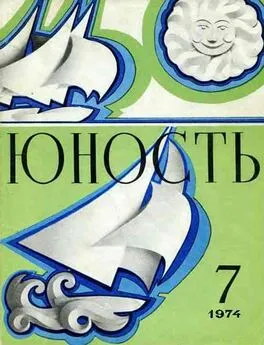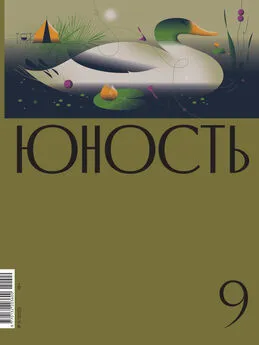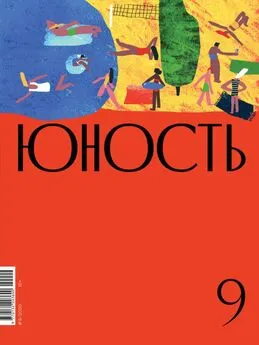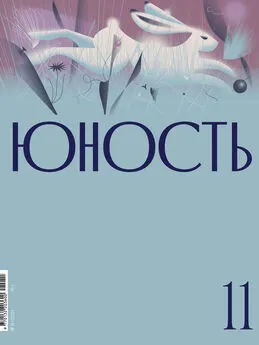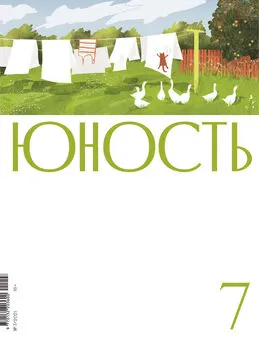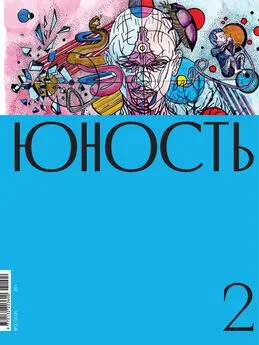Журнал «Юность» - Юность, 1974-8
- Название:Юность, 1974-8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Правда».
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Юность» - Юность, 1974-8 краткое содержание
В НОМЕРЕ:
ПРОЗА
Людмила УВАРОВА. Переменная облачность. Повесть.
Геннадий МИХАСЕНКО. Милый Эп. Повесть. Окончание.
ПОЭЗИЯ
Пабло НЕРУДА. Возвращаясь. Посол. Все. Подождем. Здесь. Приехали несколько аргентинцев. Перевод с испанского Льва Осповата.
Сергей БАРУЗДИН. Моим друзьям. «…А мы живем…». «Есть у нас в Переделкине деревце…». «В Порт-Саиде все спокойно…». «Бегите суеты, бегите суеты!..». «Как порою жизнь обернется!..»
Абдулла АРИПОВ. Аист. Ответ. Перевод с узбекского А. Глейзер
Дмитрий СУХАРЕВ. «Каждому положен свой Державин…». Шутливая песенка. Ночные чтения. Возлюби детей и щенков. Лирический герой
Александр РОМАНОВ. Утро. «Когда эта песня была?..» «Приезд мой яркой встречей озари…»
Олег ЧУХОНЦЕВ. Девочка на велосипеде. «Еще помидорной рассаде…». Иронические стансы. Бывшим маршрутом. «…И поглотила одна могила…»
Юрий СМИРНОВ. «Менялы, коллекционеры…». «Должно быть, мало витаминов…»
Сергей БОБКОВ. Вечный огонь. «Красноперые дни…». «От свидания к свиданью…». У моря.
Людмила ОЛЗОЕВА. «Подснежник в золотых веснушках детства…». «Под сердцем жажда жить комочком проросла…»
КРИТИКА
Ираклий АНДРОНИКОВ. Новый Пушкин. (К нашей вкладке)
Л. АНТОПОЛЬСКИИ. Познание современности
Б. РУНИН. Это стихи!
Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации
ПУБЛИЦИСТИКА
Валерий ПОВОЛЯЕВ. Четыре праздничных дня
ПИСЬМО АВГУСТА
Писателю Г. Медынскому (от воспитанников трудовой колонии)
Г. МЕДЫНСКИЙ Разговор всерьез.
НАУКА И ТЕХНИКА
Евгений РОМАНЦЕВ. Чудеса обыкновенные
СПОРТ
Александр ШУМСКИИ И пришлось президенту сбрить усы
ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Владимир ТУКМАКОВ. Игра без предрассудков
Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Спеша творить добро…
ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
В. КРАПИВА, Ю. МАКАРОВ. Дневник абитуриента
Герман ДРОБИЗ. Робкие люди
Юность, 1974-8 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть внешние формы бытия северорусской деревни, некий пробивающийся наружу ритм — и в этом длинно протянувшемся порядке изб, и в рычании трактора, въезжающего на зерноток, в копании картошки по огородам, розовой и крупной картошки, в вывешивании гроздьев рябины на передок дома, в том, как идет-прогуливается по улице дедушка с распущенной на стороны сивой бородой, в хмельных, бессвязных словах загулявшего ветврача, в божественно поэтичных, гипнотизирующих речах, которые ведет старая Егоровна под портретом погибшего сына. Есть эти внешние формы, а есть и связующая их идея. Есть человеческие судьбы, соединяющиеся и обособляющиеся, есть драматические конфликты, есть проблемы, решенные усилиями партии и государства, и те, которые завязываются сегодня. Есть полнозначная, сложная современная жизнь русской деревни. К ней, к этой жизни, к сегодняшнему дню движутся, объясняя его, три романа Федора Абрамова. Они продолжают один другой хронологически; действие последнего, опубликованного в первых прошлогодних номерах «Нового мира», протекает в 1952 году. Три романа, однако ж, восполнятся и четвертым. который завершит тетралогию.
Вот особенность художественного мышления писателя: осуществить свое понимание современной действительности он может, лишь приближаясь к ней издалека, с последовательностью историка. Корни явления, динамическое его развитие — и сегодняшний его образ, ветвящийся из прошлого, наделенный богатым идейно-пространственным смыслом. Что из чего проистекает? Во что включается? Чем становится? Это вопросы необходимой координации, вне которой не существует эпико-аналитического творчества Федора Абрамова. Авторская мысль входит в живую основу жизни, воссоединяясь с нею. Клетка вырастает из клетки, создавая романное целое, его связи и ритмы. Внешнее проливается вглубь, становится сущностью; характер вносит свое соотношение в характер, меняясь и меняя, утверждаясь и уходя.
Резко, сильно, будто резцом, выбит в «Путях-перепутьях» характер Подрезова, секретаря райкома партии. Это человек властный, полный энергии, честолюбия, но вместе и рачительный. Однако ж идет время, развертывает до конца свиток с записью того, что суждено исполнить личности, и в напряжении деятельности Подрезова простукивает прошлое, отбывающее. Казалось, он превосходно делал то, что делал до сих пор, но так казалось до конфликта с молодым директором леспромхоза Зарудным, владеющим совсем другим кругом идей.
Сдвигается в прошлое Подрезов, и на место его выходит человек иного культурного мироощущения. Критика, правда, отмечала известную схематичность образа Зарудного, и не без оснований. Скорее все же не о схематичности стоило бы толковать, не о том, что Зарудный приближен в роман из некоегс не слишком далекого будущего. Вступая в спор с консерваторами, он говорит о том, что «в лесной промышленности наступила новая эпоха — по сути дела, эпоха технической революции…» Не рановато ли говорит он эти слова для 1952 года? Да, пожалуй, рановато. Но это, между прочим, и довольно примечательное обстоятельство. Мысль автора устремлена вперед, к тому времени, когда Зарудные окажутся совсем не экзотической редкостью, но частыми гостями и в жизни и в литературе. Мысль автора создает процесс, в который та, далекая действительность втягивается, будто становясь прототипом того, чем она вскоре станет. В ней, в той действительности, усилена одна из ее возможностей, программируемая изнутри и в определенном направлении. Стоит себе на берегу Пинеги деревня Веркола, а рядом с ней десятки других северных деревень стоят. Отблеск их нынешней жизни уже упал на роман Федора Абрамова, особенно на последнюю его часть. Объясняющие мотивы и причины натянуты из прошлого в наш день. В художественном бытии «Путей-перепутий» нетрудно отличить те пласты, которые движутся и перемещаются словно бы рядом, на расстоянии протянутой руки: есть такие, которые воспринимаются как бы в ретроспекции по отношению к первым: они соизмерены (или на крайний случай ищут меру друг друга), соединяются в единство. Вот отчего роман «Пути-перепутья» воспринимается не только как произведение исторически отдаленное и вызывает много основательных споров в критике.
Нравственная проблематика «Путей-перепутий» многомерна, существует в связях и пластически подвижных соотношениях. Потому нельзя вылущить из текста какой-либо одной «проблемы», не травмируя всего целого.
Все же заслуживают особого внимания поиски писателя, связанные с любимой его семьей Пряслиных, с Михаилом Пряслиным. Парнишкой, еще подростком Михаил взвалил на свои плечи огромный, едва ли посильный жизненный груз. Трудно современному юноше даже и вообразить себе ту северную деревню военных лет, где одни бабы да подростки-недомерки колотились день-деньской над хлебом и лесом. Жар да оводно, мороз да обутка худая, хлеба нет, а младшенькие разинули рты, как птенцы голодные… Ох, парень, жизнь жила, дак тяжело было, беда ведь, — вслушиваюсь, вхожу, вторю голосу старухи, пережившеи военные времена, в рыдающий голос, возносящийся голос вникаю . — Всяко было пожито, всяко, а хорошо-то и не привелось. Потом налог отменили, легче сделали жизнь-то. А женки как робили!.. Дунька бежит да делает, заботливый человек, труд любит, ничего не скажешь. Ловка была, ловка, не просидит, трудолюбива. Худа была, вы худела, на одном молоке держалася. А поё песни, хорошо поё. Плохо с теми, кто в сторону глядет. Парень один да другой были. Тот идё, бредё матюкается. Не по той дороженьке пошел, не ту тропочку нашел, не в тот следочек вступил… А другой-то помога, крепко помога. Не под гору бегил, в гору тащил. Всю жисть трудился парень, все здоровье отдал. Подумывал: как не встану, меньшие, — пых. Кочкает мешки, кочкает. Пора-то тяжело было.
Один легкого пути искал, другой справедливого. Один чем-то похож на абрамовского Егоршу Ставрова, другой — на Михаила Пряслина. Один убегал, другой тянул. Один — перекати-поле, другой — укоренившийся в этой жизни человек. И дело Михаила Пряслина — дело героического самоотвержения… А теперь, когда он уже взрослый, когда плечи развернулись и мускулы окрепли, когда он подлинный глава семейства? Каков теперь его путь — в послевоенной жизни? О чем он думает, о чем мечтает, к чему стремится?
Федор Абрамов и теперь по-прежнему горячо любит своего героя. За то любит, что не оставил тот своего трудового поста. Не увильнул, в кусты не кинулся (а ведь мог в Архангельск ушлепать). Но и хочет теперь видеть в своем Михаиле писатель человека с гражданским сознанием. А потому строит в «Путях-перепутьях» ситуацию, которую можно назвать отчасти экспериментальной, проверочной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: