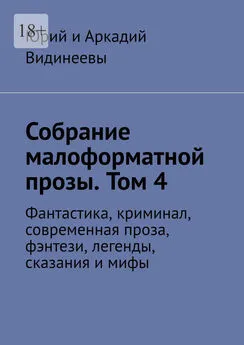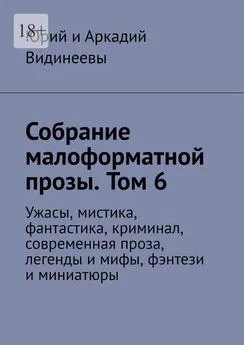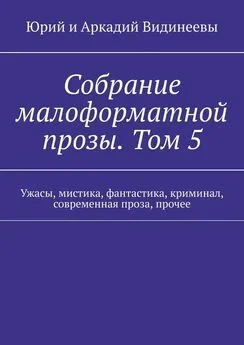Юрий Кузнецов - Тропы вечных тем: проза поэта
- Название:Тропы вечных тем: проза поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литературная Россия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7809-0205-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Кузнецов - Тропы вечных тем: проза поэта краткое содержание
Многие из материалов (в том числе сохранившиеся страницы автобиографической повести «Зелёные ветки» и целый ряд дневниковых записей) публикуются впервые. Таким образом, перед читателем гораздо полнее предстаёт личность Юрия Кузнецова — одного из самых ярких и таинственных русских поэтов последней четверти XX — начала XXI века.
Тропы вечных тем: проза поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ложь — древняя поэтическая попытка недовольного человека увековечить самого себя.
Красота — отдыхает. Законы отдыха — это законы красоты — свобода. Отдых, как красота и как любовь, требует свободы и не выносит оков. Но отдых больше, чем любовь. Любить в оковах ещё можно, но попробуйте в них отдыхать! Теперь я понимаю холостяков — любви они предпочитают отдых.
Письма — это наши оковы. Незаслуженная обязанность их писать страшно меня раздражает, как, впрочем, всякое покушение на свою свободу. Письма нужно писать по настроению — как стихи. Своей любви мы обычно пишем письма именно по настроению. Письма — корыстное следствие морали, внушенной с колыбели. Писать часто письма — низкопробно, безвкусно, а писать вдобавок к тому длинные письма — совсем ужасно. У своих друзей и у себя лично я обнаруживаю особый тончайший вкус — мы не пишем друг другу по два-три месяца сразу, хотя утратить дружбу было бы для нас жестоким ударом судьбы.
Иду дальше. Судьбу делают будни. Будни — основа морали. Они изматывают, как бессонница. Сон давно стал для нас сказкой. Испытания буднями — испытание на растяжение. Счастье человека, как вообще всё чувственное, эластично. Но интеллект не обладает и не должен обладать таким низким, неблагородным свойством. Он противодействует. Он смертельный враг будней и, понятно, вообще рутины.
И ещё. Скука не свойственна поэзии, она свойственна жизни. Поэзия — это праздник, а скука — будни. Но будни — увы — всегда преобладают. Праздники — это соль жизни, соль будней, и если всё время праздники — это будет скучно.
17 июня 1964
А ещё в армии я чищу картошку. Неповоротливая мокрая кожура свисает с ножа длинной спиралью и укладывается у ног калачиком. Это чисто по-кошачьи или по-женски. Выковыриваю противные глазки, как окопавшихся тунеядцев. Ребята разговаривают, а точнее думают вслух. Думать вслух — это так непосредственно, по-детски и так по-философски! Я тоже разговариваю или молчу. Молчать интересней. Я превращаюсь в бесшумный ворох длинных воспоминаний. Воспоминания падают с ножа сырой галактической спиралью. В чистке картошки, в этом простом, размеренном, как время, занятии присутствует неуловимая гармония природы, детства, философии, отдыха. Теперь я знаю отчего Оскар Уайлд обожал простые удовольствия.
После я долго хожу с пальцами, покрытыми, как ожогами, чёрными косыми пятнами от крахмала…
28 июня 1964
И опять хандра сосёт под ложечкой, нестерпимый перемежающийся сплин. Смеясь, я иду от любви к любви, от ненависти к ненависти, от хандры к хандре. У будней есть свои будни — это хандра, оборотная сторона счастья, сестра тупости. И вот приходит неизбежная пошлость — смех сквозь слёзы. Она начинается в голове. Но сперва мысли — короткие острые вспышки, переходящие в глухое пламя.
Иронию породили будни. Она порождение свободного духа и она заусеница здравомыслия. Человек с развитым чувством юмора — утончённо безнравственный человек. Ирония эгоистична. Она амортизирует личность на ухабах жизни. От иронии до пошлости один шаг. Ах, ирония, ирония!.. Но после того, как мы рассудительно говорим: «Шутки в сторону!» — мы становимся мертвецами. Всё время, каждую минуту со мною живут программные строчки Маяковского: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!» Но я слишком ненавижу всяческую мертвечину, чтобы быть разборчивым в жизненной всячине.
Самоволки в армейском быте опасны, как сапёрная работа. В этом деле ошибаются только один раз — и репутация солдата взлетает на воздух. Я уже несколько раз взлетал на воздух. Но так, как со мной случилось в последний раз, ещё ни разу! Я взлетел слишком высоко, чтобы по возвращению на землю собрать свои бренные осколки в единое целое. А ведь самоволка работала, как хронометр.
Вплоть до самого ужина шёл несносный, непролазный тропический дождь. Он затопил кругом всю окрестность и, чтобы задами добраться до первой асфальтированной дороги, нам пришлось снять башмаки и носки, и засучить узенькие, как бамбучины, брючки. Но засучить их на толстые икры явилось неразрешимой головоломкой. Мы пробирались через полупустынный автопарк и дальше через широкий луг с жёсткой месячной щетиной и залитый по щиколотку, как в половодье. Тучи глухо скрежетали и вот-вот могли снова обвалиться потопом. Упрямо накрапывала подозрительная морось. Мы — это Кушнаренко и я. Кушнаренко — в бывшем что-то вроде барабанщика в одной из краснодарских джазбанд, счастливый, оптимистичный человек. Оптимистичный до такой степени, что никогда не задумывался над своими поступками. Единственно, к чему он не выработал иммунитет, так это к армейским порядкам. Он любил улыбаться и на ощупь был плотный, как молочный щенок. В тот день мы оба заступали в наряд дневальными по роте, во вторую смену с 2-х часов ночи. В общей сложности мы имели приличную кучу денег — 42 песо, три четверти которой проходили в гаванских барах. Наш скорбный путь, начиная с первой автобусной остановки, был до отказа насыщен рекламным неоном, высокопробной залётной музыкой, пленительной давкой среди чувственных женщин и едким призраком русского патруля. В мрачном районе порта мы сделали первый заход в бар. Crema Cacao!
Я его тянул, как заядлый курильщик редкую сигарету. Тянул и стонал от благоговейного блаженства. Кушнаренко после сообщил, что с нас порядочно содрали. Удивительно, платил-то я! Экзотически, страстно наигрывал музыкальный комбайн-автомат. Пять сентаво — пластинка. Пять сентаво — глоток кубинской музыки. Была и русская — «Очи чёрные», — филигранно отточенный мотив. Пять сентаво — русская тоска. В баре пьют корректно — по-птичьи. Но русских здесь уже знают. «— Товарич!» Им наливают сразу полный стакан. Самоволка тикала на семи камнях (семь свободных часов) и никто ещё не знал, что в полку скоро нас будут разыскивать. Мы покамест блуждали в улицах узких, как ущелья, и попыхивали ершистыми сигаретами, но уже надоедало. Выручило такси. «— A la „Victoria!“» И вот бар «Виктория». Целый квартал. Улица густо запружена одними мужчинами. Казалось, проходило заседание общества холостяков, председатель только что кончил свой потрясающий доклад и все высыпали на перерыв. Кушнаренко сразу приуныл и высказал проблематичное предложение о том, что надо, наверное, занимать очередь. Но мы перед этим крепко поддали, чтобы долго рассуждать, и под сильным креном ввалились в дверь, в коридор, на лестницу, в дверь, в пространство и что-то так вплоть до самого дна свободной цивилизации, где по нас в невероятной тысячелетней тоске изнывали знойные женщины тропиков. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Старая романтика, чёрное перо.
Во втором часу ночи я пришёл в «Колонию». Ночь. Пронзительная, нервная тишина. Чуткие чёрные лужи. Пошлость кончалась. Оставалось несколько шагов. Вот и они преодолены. Я перелез через сварливую колючую проволоку и направился в роту. Там меня уже поджидали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
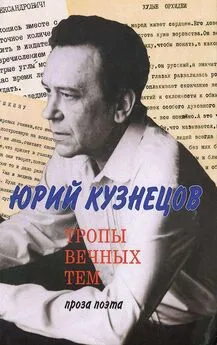

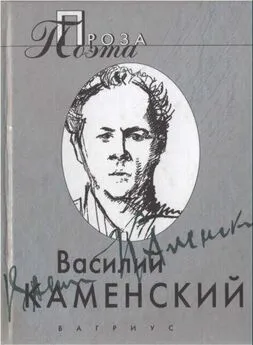
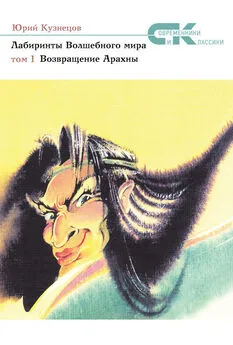
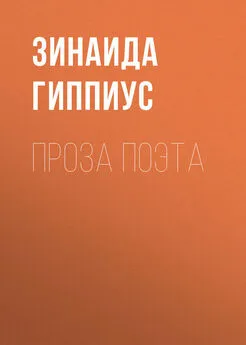
![Юрий Кузнецов - После вечного боя [стихи]](/books/1097831/yurij-kuznecov-posle-vechnogo-boya-stihi.webp)