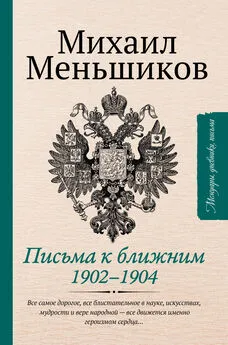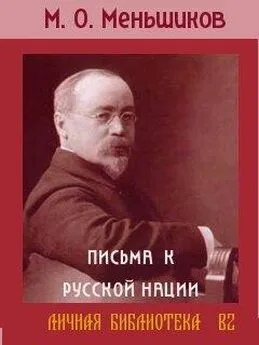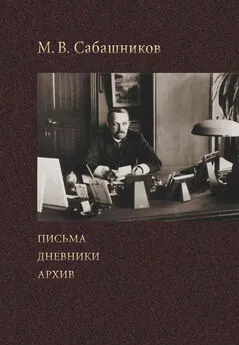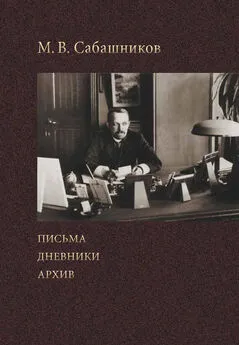Михаил Меньшиков - Письма к ближним
- Название:Письма к ближним
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-145459-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Меньшиков - Письма к ближним краткое содержание
Финансовая политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал М.О. Меньшиков. А еще он писал о своих известных современниках – Л.Н. Толстом, Д.И. Менделееве, В.В. Верещагине, А.П. Чехове и многих других.
Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая на жизненные вопросы, что волновали общество.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Письма к ближним - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я ничего не сказал о поливке, полке, окучивании и пр. и пр. Во всем процессе художественного хозяйства идет крайне внимательная, почти филигранная работа. Тысячи технических мелочей, составляющих в общем серьезную науку, вооружают талант и энергию пашущего художника. Зато и результаты получаются весьма картинные. Десятина пшеницы с пересадкой даже у нас в Курской губернии дает 236 пудов зерна. Так называемый «гнездовой» посев, изобретенный в Китае три тысячи семьсот лет назад, дает сам-пятьсот, сам-восемьсот. Если климат теплый, как в Китае, то просто невероятно, что может дать клочок земли при разумной обработке. За лето там снимают два сбора риса, в среднем 720 пудов с десятины. Сняв в октябре второй сбор, поле делят на четыре части и сеют репу, бобы, капусту и сурепу. А между ними высевается рядами черный клевер. Репы собирается 608 пудов с четверти десятины, бобов – 28 пудов, капусты – 940 пудов, сурепного зерна – 33 пуда, да клевер скашивается на сено. Но это еще не все. В феврале высаживается еще пятый сбор – сеется пшеница, ячмень, бобы, горох. Пшеницы получается около 130 пудов с десятины, гороху – около 140 пудов…
Все это кажется невероятным, но ведь природа полна чудес. Мы, варвары, и понятия не имеем о материнстве нашей матери земли. При нежном уходе за нею начинается просто бешеное ее плодородие. Из почвы прет и лезет жизнь без конца. Но оплодотворяет почву, как глыбу мрамора, лишь художественный гений, лишь разумное, полное нежности и меры, полное благородной чистоты прикосновение. Холодное невежество бесплодно.
День в деревне
Разговоры о том, что в народном сознании как бы «зашаталась земля», затмилась вера в неприкосновенность земельной собственности, напомнили мне один день в деревне, в маленькой, очень бедной помещичьей усадьбе.
Мы обедали в саду, в холодке развесистых лип; воздух напоен был медовым запахом, жужжали пчелы. Белые облака, как лебеди с выгнутою грудью, плыли по синему небу. Помню, что ели чудную ботвинью, но чуть не поссорились из-за одной газетной новости. Спорившие стороны – «дядя», старый отставной полковник, хороший сельский хозяин, и его племянник, молодой художник, десять лет не бывавший на родине и приехавший устроить свой родовой клочок земли. Художник совершенно без дурных намерений, просто «так», упомянул в начале обеда, что в Англии выделывают нынче новый химический хлеб и даже продают его в лавках. Старый помещик принял это почти как личное оскорбление. Он посмотрел на художника строго и с величайшею ядовитостью спросил: – Что же это будет такое, сей новоиспеченный хлеб? Не из той ли ржи, что на обухе молотят?
Художник смешался, сказал, что об этом пишут из Лондона в «Неделю», что это так называемый протеиновый хлеб, что он добывается прямо из воздуха, из воздушного азота. – Может быть, – сказал художник, – я что-нибудь спутал, не настаиваю на подробностях, но идея та, что теперь можно добывать хлеб помимо земледелия, прямо заводским путем. Подумайте, какой это переворот может произвести в человечестве! Это будет настоящее землетрясение!
– Тэ-эк-с, тэк-с… – с бесконечным презрением процедил «дядя». Не удостоивая серьезным возражением, он стал выпаливать свои милые словечки против англичан, против химиков, против газетчиков, которые напечатали такой вздор. – Этакие ослы! – (Несколько ложек ботвиньи.) – Вот болваны! – (Серебряная чарочка водки.) – Идиоты!
– Слушайте, дядя! – заявил художник. – Мне с вами сегодня невыгодно ссориться. Вы обещали мне повезти меня на мою пустошь. Ради Бога, не будемте откладывать поездку, иначе никогда не соберемся.
– Что ж? И пусть не соберемся. И пусть твоя земля пустует без аренды. Пусть ее травят мужики. Раз ты в десять лет один только раз собрался поглядеть на родовую землю, зачем тебе она? Ел бы себе в Питере протеиновый хлеб!
После обеда мы – младшее поколение – побежали к озеру, но с балкона раздался грозный окрик:
– Эй, ты! Протеиновый помещик! Чуть от стола – и с барышнями!
– А что? – спросил художник.
– А то, что надо в твое «имение» ехать. Где у тебя план-то?
– Я сейчас. Четверть часика!
Имение художника – «несчастных шестьдесят семь десятин» – занимало его куда меньше, чем свеженькие, почти незнакомые, застенчивые кузины, в светлых платьицах из сарпинки, меньше, чем этот чудный день и синее озеро в рамке леса, меньше, чем все это душистое приволье глухой усадьбы. Через полчаса мы поднялись к полковнику и застали его в кабинете над грудою пыльных, пожелтевших планов и карт. Он был нахмурен и, посасывая короткую трубочку, сплевывал в сторону совсем не по-барски.
– Ты говоришь про какой-то там идиотский хлеб, протеиновый или какой еще… Ты говоришь, что это произведет землетрясение в человечестве, а вот ты сюда загляни!
– Это что же такое?
– А это – владения наши, теперешние, с позволения сказать, владения рода Щелкиных.
На столе лежала большая карта, составленная и разрисованная, очевидно, самим «дядей». Он когда-то служил в генеральном штабе и знал межевое дело. Среди белого пространства, слегка тронутого ситуацией, были разбросаны самых причудливых форм пятна – зеленые, желтые, коричневые, голубые.
– Что же это все-таки?
– Да вот обломки после землетрясения. Все кусочки, пустоши, клинья, облоги.
– Ого, сколько их. Это называется, кажется, чересполосицей? – спросил я робко.
– Называйте прямо землетрясением. Все это жалкие развалины когда-то огромного, благоустроенного владения.
Понимаете, похоже на то, как будто эту землю или право собственности на нее какая-то подземная сила трясла и мяла, перебрасывала от одного хозяина к другому. Теперь это обломки, хлам, почти никуда не годный.
– Ну, дядя, – какой же это хлам? – заметил художник. – Тут в общем десятин, пожалуй, пятьсот наберется.
– Да. С протеиновой точки зрения, пожалуй. Но ты взгляни – ведь клинья-то разбросаны на пространстве чуть ли не тридцати верст! Если б ваш Исаакиевский собор рухнул – обломков вышли бы горы, а что с них толку?
– Понимаю вашу мысль…
– Как видно, плохо понимаешь. Ты говоришь о социальном землетрясении из-за какого-то химического хлеба. А я тебе говорю, что это землетрясение не произойдет, а давно происходит, и для большинства нас, помещиков и мужиков, уже произошло. Да-с, и ты этого не видишь своим художественным глазом. И все вы с протеиновым знанием своим – ни шиша, извини меня, не понимаете.
– То есть вы хотите сказать, что крайнее дробление земли, вот как у вас на плане, гибельно отражается на самой земле, что ли?
– А вот поедем в твое имение – дорогой потолкуем. – Аксютка! – крикнул дядя в открытое окно бабе с подоткнутым подолом. – Скажи Никешке, чтобы Горбача запрег. В желтую бричку. Да чтоб сена положил. Тут такой народ, что клока сена не достанешь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: