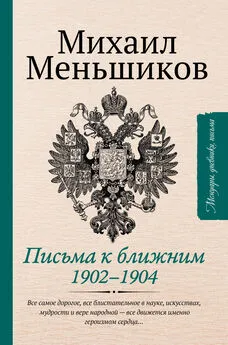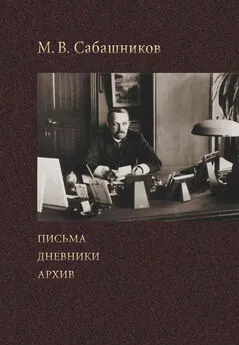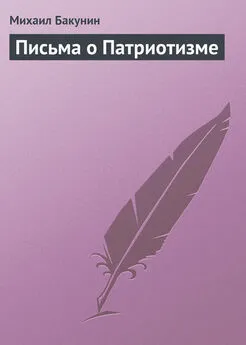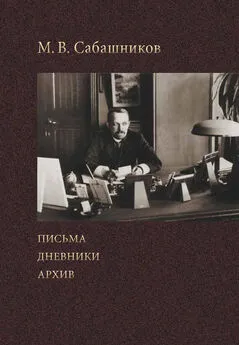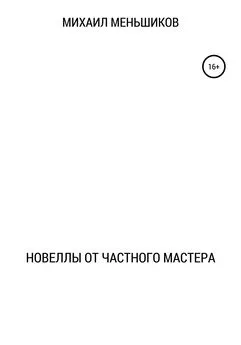Михаил Меньшиков - Письма к ближним
- Название:Письма к ближним
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-145459-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Меньшиков - Письма к ближним краткое содержание
Финансовая политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал М.О. Меньшиков. А еще он писал о своих известных современниках – Л.Н. Толстом, Д.И. Менделееве, В.В. Верещагине, А.П. Чехове и многих других.
Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая на жизненные вопросы, что волновали общество.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Письма к ближним - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Что же, по-вашему, нужно? – спросил художник.
– А уж один Бог знает что. Я ведь не химик, ничего не предлагаю. Я деревенский житель и чувствую, может быть оттого, что люблю землю всем сердцем, – чувствую горько и больно, что земля обижена, что с нею поступают неблагородно, не по-божески. Ее теребят и рвут из нее, не дают ей жизни. Как сильная корова заливает молоком теленка, земля могла бы дать такое обилие пищи человеку, что он мог бы захлебнуться у груди ее. Но для этого нужно, чтобы ее не тревожили, не изнуряли. Я еду теперь по земле моих предков, и мне жаль глядеть на нее. Если бы от меня зависело – я всей земле дал бы волю. Какую волю – я плохо сознаю, но чувствую, что она в ней нуждается. Надо повернуть ее как-нибудь так, чтобы она служила человеку так же вольно, непринужденно, могущественно, как остальные стихии – вода, свет, воздух. В этом основной вопрос народный, а ты уповаешь на какую-то протеиновую машину.
– Я вовсе на нее не уповаю, – сказал художник. – Но раз нет подходящих условий для зерна…
– То, – перебил дядя, – не будет их и для стальной машины. Раз у нас не хватает разума, веры в Бога и жалости друг к другу…
Но тут из-за поворота дороги раздался звон колокольчиков, внезапно выехала щегольская тройка нам навстречу.
– Батюшки! Я к Андрей Сергеевичу, а он сам навстречу!
В коляске сидел щегольски одетый, в ослепительно-белом офицерском кителе наш становой пристав, Густав Степанович. Превосходно выбритое лицо его лоснилось счастьем. Он тотчас засыпал полковника вопросами и местными новостями. Из них самая важная была та, что нам дальше не стоило ехать. На Грыму прорвало плотину, и чтобы добраться до Лубяницы, пришлось бы сделать верст тридцать в объезд. Пришлось отложить поездку и вернуться домой – в очаровательном обществе Густава Степановича, который именно к нам и собирался. Он ухаживал за одной из хорошеньких кузин художника – Машей.
– Ну, уж раз мы встретились, – сказал «дядя» становому, – позвольте вам пожаловаться. Мне просто житья нет от моих мерзавцев.
– То есть от кого же-с?
– Да от сукинских мужиков. Представьте, – иду вчера на Коровий клин – вы знаете? К Егорьевскому мосту, там у меня лесок. Два дубка срублены! Два пятивершковых дубка, и след виден на Пахомово…
– Вы же говорите на сукинцев?
– Ну, конечно. След – для отвода глаз. Я сейчас же догадался – это Назаренково дело. Послал работника разузнать, – Назаренок пьян. Его дело.
– Расследуем. Но если бы знали да ведали, какой я вам сюрпризец везу… От мирового.
– Да что вы! – вскричал полковник, густо багровея под белой фуражкой. – Опять повестка?
К вопросу о «землетрясении» и протеиновом хлебе мы более не возвращались.
Альпийские мотивы
В Берн я приехал в последний, самый торжественный день всемирного конгресса печати. Стоял вечер. Из отеля было видно, как горел бенгальскими огнями купол какого-то величественного здания. Это была иллюминация в честь журналистов. «На нашей улице праздник», – подумал я и тотчас почувствовал, как я счастлив тем, что я не член конгресса, что мне не нужно облачаться во фрак и парадировать с цилиндром в руке перед швейцарской и международною публикой. Какое блаженство утомленному залечь спать в тихой комнате, когда наши товарищи со всех концов света слушают доклады друг друга и напряженно ораторствуют о том, что им, вероятно, надоело до отвращенья, – о журнализме, о журнальной полемике, о третейских судьях и т. п.
Наутро с площадки Klosterhof’а я любовался Бернскими Альпами. На горизонте поднимаются великаны Швейцарии – Шрекгорн, Финстераргорн, Юнгфрау, Мэхн, Эйгер с их бесчисленною свитой. Покрытая вечным снегом, ушедшая за облака, эта гряда гор кажется тоже конгрессом, собранием каких-то гигантов, с высоты нескольких верст взирающих на род людской и хранящих строгое молчание. Отрывая глаза от этих как бы коронованных вершин к отчетам конгресса, я чувствовал, до какой степени «молчание – золото», до какой степени мы, шевелящиеся в прахе земном, у подножья гор, много лишнего думаем и говорим. «Великое царство молчания», о котором грезил Карлейль, «океан молчания, идущий к звездам» (Мопасссан), святое молчание природы – оно нам не слышно здесь, внизу. Плеск волн, шум ветра, лязг железа, стук копыт, звон колоколов, наконец – наша непрерывно текучая человеческая речь – все это заглушает подлинный голос мира. Как бы для того, чтобы подслушать его, земля подняла эти величавые горы выше громов и бурь, выше всех страстей земных, в область, куда не доходят смех и стоны.
Хороши горы, но в руке – газета, отчет о международном сборище представителей самого говорливого сословия на свете. Впрочем, оно же и самое молчаливое сословие. Чтобы «говорить», писателю требуется глубокое молчание, необходимо одиночество, нужна «клеть», в которой бы на время работы можно было затвориться тайно, как в евангельской молитве. Это одиночество и тишина, это прислушиванье к внутреннему, как бы нездешнему голосу, идущему с высоты, – есть художественная черта писательства. Она дает кругу серьезных писателей некоторое сходство с горным хребтом, поднимающимся над плоскою поверхностью остального человечества – шумного, много говорящего, но мало думающего. Именно с вершин холодной, одинокой, молчаливой мысли текут орошающие духовный мир публики потоки идей и настроений, сливающиеся, как реки в моря, в миросозерцание народное, в его душу.
Если вы будете невеликодушны и заметите, что большинство писателей не похожи на Юнгфрау – ни по снежной чистоте духа, ни по его возвышенности и небесности, – я скажу на это, что ведь и Юнгфрау – единственная среди гор, или по крайней мере подобных ей так немного. Весьма возможно, что из ста тысяч современных «писателей» девяносто девять сотых едва лишь возвышаются над уровнем толпы. Но, заслоняемые ими, часто невидимые, наблюдаемые лишь с известной высоты, все же в каждой стране есть несколько десятков и сотен литературных вершин, духовное знакомство с которыми расширяет горизонт, как восхождение на выси гор. Между ними в каждой стране есть группа недосягаемой высоты, свои Монбланы и Юнгфрау, представляющие крайние точки подъема народного духа с заоблачною ясностью зрения на мир. Эти славные вершины над горным хребтом, именуемым литературой, всем известны. Чем выше отдельные горы, тем выше и вся гряда их. Что касается русской литературы, вспомним, что в нынешнем году исполняется полвека, как она имеет счастье считать в своих рядах Льва Толстого. Это по признанию даже завистливых иностранцев – своего рода Гауризанкар литературы, «гора света». В глазах мира он окружен такими вершинами, как Достоевский, Тургенев, Пушкин, Гоголь. Пусть Россия вовсе не была представлена на Бернском конгрессе печати. Но неужели кто-нибудь решится сказать теперь, что земля наша в духовном смысле плоскость? Именно эта невесомая стихия – слово русское – доказывает, что народ наш по природе не менее возвышен, чем и его собратья, что, взволнованный, он способен на огромные, поднебесные порывы, на безграничные склоны и подъемы, на широкие дали, на все неисчерпаемое разнообразие форм человеческого духа. Сто лет тому назад русскому писателю было стыдно принадлежать к своей литературе и к народу русскому. Теперь не то. Тучи народного невежества рассеиваются, и над ними давно уже показались сверкающие вершины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: