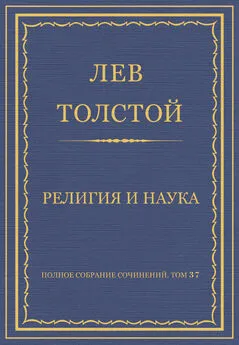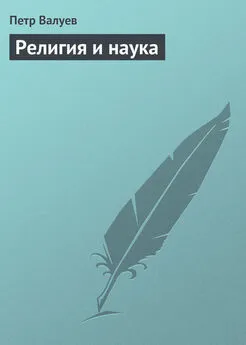Иен Барбур - Религия и наука: история и современность
- Название:Религия и наука: история и современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иен Барбур - Религия и наука: история и современность краткое содержание
Автор приводит исторические материалы, раскрывающие представления о физике и метафизике, бытовавшие в XVII веке, природе Бога в XVIII веке и взаимоотношениях биологии и богословия в XIX веке. Книга может служить прекрасным пособием по курсам "Богословие и наука" и "Современные концепции естествознания".
Религия и наука: история и современность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2. Природа как движущиеся частицы
Авторы некоторых исторических и философских трудов, написанных в 1950-х гг. и ранее, проявляли интерес к метафизическим допущениям основателем современной науки. Они анализировали характерные концепции новой физики и говорили о математизации и механизации природы.10 Такой «интерналистский» подход (описание смены идей внутри научного сообщества) позднее подвергся критике со стороны историков-«экстерналистов», которые настаивают на том, что при изучении истории науки необходимо предусматривать более широкие общественные и культурные силы. Некоторые задаются вопросом, можно ли вообще выделить единую «научную революцию» из всевозможных ее проявлений в различные периоды и в разных странах.11 Я полагаю, что мы должны принимать в расчет и научные идеи, и общественные силы, и то что развитие физики в XVII веке, несмотря на разнообразие дисциплин и периодов, имело столь далеко идущие последствия как для науки, так и для изменения общераспространенных взглядов на природу, что оно заслуживает особого внимания.
Работы Галилея особенно примечательны тем, что в них дана предварительная формулировка нового представления о природе как о движущейся материи. «Корпускулярная философия» XVII столетия еще не была «атомной теорией» XIX века, которая в результате деятельности Дж. Дальтона (Dalton) получила солидные экспериментальные доказательства. Однако она являлась не просто возрождением древнегреческого «атомизма» Демокрита, носившего исключительно философский и умозрительный характер. По сути, Галилей исходил из своего собственного опыта; он считал, что основные составляющие природы можно исчерпывающе описать в тех же категориях, которые так пригодились ему при анализе движения наблюдаемых объектов.
10 Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (New York: Macmillan, 1925); Edwin A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science, rev. ed. (New York: Humanities Press, 1951); Koyre, Metaphysics and Measurement.
11 Arnold Thackray, «History of Science», in A Guide to the Culture of Science, Technology and Medicine, ed. Paul T. Durbin (New York: Free Press, 1980); John R. K. Christie, «The Development of the Historiography of Science», in Companion to the History of Science, ed. R. C. Olby et al. (London: Routledge, 1990).
Категории массы, пространства и времени для средневековых авторов имели сравнительно небольшое значение. У Галилея они занимают центральное место, поскольку поддаются математическому исчислению. Он считал, что мир состоит из частиц, которым свойственны лишь два качества: масса и движение. Изменение означало теперь не переход от возможности к осуществлению, а перераспределение частиц во времени и пространстве. На протяжении XVII столетия ученые постепенно приходили к выводу, что с помощью измеряемых понятий, с которыми они научились столь успешно обращаться, можно охарактеризовать весь существующий мир (за исключением человечества). Галилей никогда не придерживался механистических взглядов на природу, но некоторые ключевые допущения подобных представлений очевидно просматриваются в его работах.
Галилей называл массу и движение «первичными качествами», характеризующими объективный мир независимо от наблюдателя, и отделял их от «вторичных качеств», таких, как цвет или температура, которые, по его мнению, являются чисто субъективными реакциями чувств на окружающий мир. Боль существует во мне, а не в уколовшей меня булавке. Точно так же, он полагал, тепло или звук существуют в сознании, а не в наблюдаемом объекте. Галилей заключает:
Я не в состоянии признать, что во внешних телах имеется что-то, кроме размера, формы или движения (медленного или быстрого), что могло бы вызывать различные вкусы, звуки или запахи. Но считаю, что если отбросить наши уши, языки и носы, то количество, форма и движение тел будут продолжать существовать, в отличие от вкусов, звуков и запахов. ... Кроме того, я полагаю, что тепло тоже совершенно субъективно».12
Наиболее полное философское описание этого разграничения между первичными и вторичными качествами, которое вылилось в радикальный дуализм материи и сознания, дал современник Галилея, Рене Декарт (1596-1650). Внешний мир — это самодостаточная материя, существующая в пространстве. Напротив, сознание — это не имеющая пространственных характеристик «мыслящая субстанция». Математика, всегда казавшаяся Декарту примером «ясной и отчетливой идеи», на которую можно суверенностью полагаться, являлась ключом к пониманию природы. Всю живую природу, кроме человека, Декарт относил к материи. Он считал всех животных автоматами, сложными механизмами, лишенными разума и чувств. Даже человеческое тело он представлял машиной. Декарт допускал лишь одно исключение, а именно: человеческий разум. К разуму он относил все свойства и аспекты опыта, с которыми неумела обращаться новая наука. Все, за исключением человеческого разума, признавалось лишь движущейся материей.13 К следующему столетию некоторые философы начнут отвергать и это исключение, что приведет к появлению метафизического материализма.
12 Galileo, The Assayer, reprinted in A. C. Danto and S. Morgenbesser, eds.. Philosophy of Science (New York: Meridian, 1960), p. 30.
13 Rene Descartes, Discourse on Method and Meditation (New York: Liberal Arts Press, 1976) [рус. перевод: Рене Декарт, Рассуждения о методе].
3. Богословские методы: Писание, природа и церковь
Идеи Галилея были расценены как угроза авторитету Аристотеля, Библии и Римско-католической церкви. Католические круги решительно отстаивали авторитет Аристотеля в толковании св. Фомы. В Северной Европе развивалась также протестантская схоластика. Последователь Лютера Меланхтон провел реформы образования, одним из результатов которых стало широкое использование работ Аристотеля. Философская практика континентальных протестантских богословов в конце XVI века, часто прибегавших к классическим авторитетам, была близка тому, чем занимались католические ученые. Таким образом, первоначальное противодействие астрономии Коперника было преимущественно следствием уважения к Аристотелю.
Лютер, и даже Кальвин, занимали достаточно гибкую позицию в отношении интерпретации Библии. Наибольшую важность для них представлял не буквальный текст как таковой, а фигура Христа, занимающая в Писании центральное место. Значение Писания определялось тем, что оно служило свидетельством любви и прощения Бога, искупившего нас во Христе. Для представителей ранней Реформации Писание подтверждалось в человеческом опыте с помощью Святого Духа. Однако к началу XVII века некоторые протестанты Северной Европы рассматривали Библию как продиктованный Богом источник безошибочной информации, и в том числе сведений о научных вопросах. Они считали Писание не рассказом о событиях, в которых открылся Бог, но точным знанием, сообщенным самим Богом. Кто придерживался подобных взглядов, противостояли теории Коперника, поскольку она противоречила тем библейским пассажам, в которых подразумевается геоцентричность вселенной. В Англии наблюдалось наибольшее разнообразие мнений относительно интерпретации Писания и, соответственно, максимальная терпимость к взглядам Коперника.14
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: