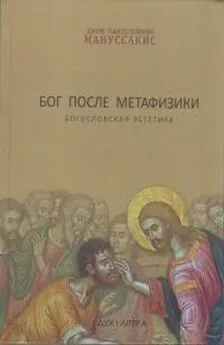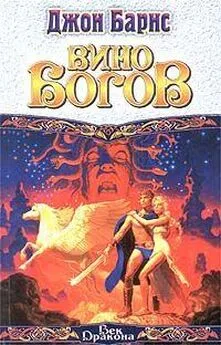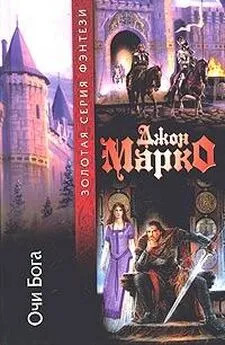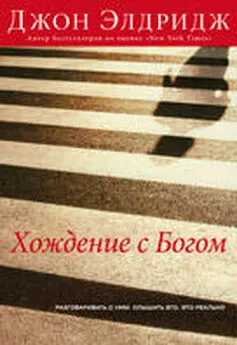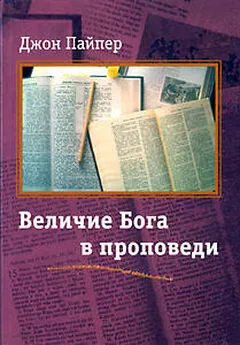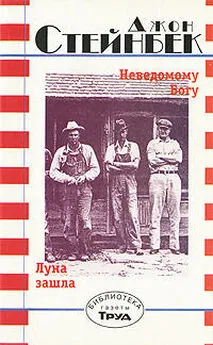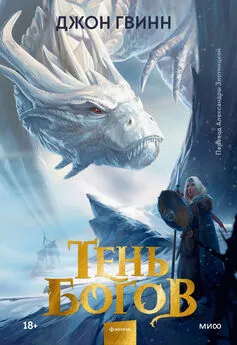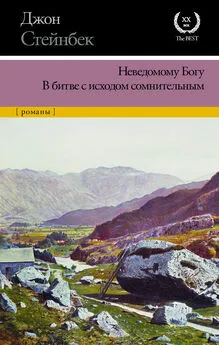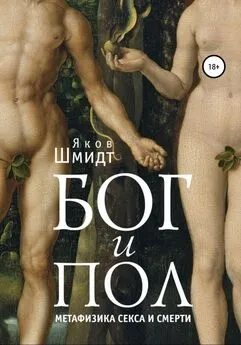Джон Пантелеймон Мануссакис - Бог после метафизики. Богословская эстетика
- Название:Бог после метафизики. Богословская эстетика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДУХ І ЛІТЕРА
- Год:2014
- Город:Кiев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Пантелеймон Мануссакис - Бог после метафизики. Богословская эстетика краткое содержание
Отец Джон родился в Афинах (Греция) и получил образование в Соединенных Штатах (степень Ph.D. в Бостонском колледже). Труды автора посвящены философии религии, феноменологии (особенно Хайдеггера и Мариона), Платону и неоплатонической традиции, а также патристике.
Книга "Бог после метафизики. Богословская эстетика" посвящена феноменологическому анализу Богообщения. Автор предупреждает, что под эстетикой имеется в виду не наука о прекрасном, а эстезис— чувственное восприятие. В центре внимания книги — три основных чувства, с помощью которых мы можем познавать Бога — зрение, слух и осязание.
Исходный djvu —
.
Предание.ру - самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете: лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах; в свободном доступе, для всех.
Бог после метафизики. Богословская эстетика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этом «импульсивном поиске непосредственного видения Бога» мы узнаем наше собственное желание видеть Бога и видеть Его непосредственно. В этом отрывке фон Бальтазар подчеркивает, что непосредственный опыт Бога невозможен и никогда не будет возможен, поскольку нам дан Посредник (Христос, см. 1 Тим. 2:5). Мы можем «видеть» Бога, так сказать, только во Христе и через Христа (вспомним слова: никто не приходит к Отцу , как только через Меня , Ин.14:6). Это кажется парадоксом. Ведь во Христе мы не видим Бога. Как нам кажется, «безумие Воплощения» (тот факт, что Бог «явился» во плоти, по сути, скрывая плотью Свое явление) играет с двойственностью всякого Боговидения: в видении Бога можно увидеть лишь себя. Это очень легко применить ко Христу: вполне можно сказать, что видя Христа, я вижу лишь подобного мне простого человека. Это действительно так, но это лишь половина правды. Видя Бога, я должен признать инаковость других человеческих существ. А последнее имеет очень далекоидущие последствия. Если, как энергично настаивает фон Бальтазар, я могу видеть Бога только во Христе, и никакое иное видение никогда не будет дано мне, то это означает, что я могу видеть Бога только в другом человеке («в человечестве Иисуса Христа»). Все Евангелие, кажется, служит указующим перстом к такому пониманию; в этом свете понятнее становится буквальное значение слов вроде этих: Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших [алчущих и жаждущих, странников, больных и заключенных], то сделали Мне (Мф.25:40) [67]. С другой стороны, не следует тривиализировать уникальность личности Христа, распространяя Его свойства (Божий посредник, Слово воплощенное) на всех, как бы говоря: «Христос — это мы все». Тем не менее, если мы можем видеть в каждом из нас Адама, первого человека, по закону тождества, то мы должны также научиться узнавать в каждом Христа, Второго Адама и последнего человека, по закону инаковости. Не в этом ли принцип Воплощения — а именно что «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»? Конечно, к этой формуле следует относиться как к приглашению, а не как к состоявшемуся факту (fait accompli ) уже реализованному Воплощением. Если мы обратим внимание на предлог «чтобы» в этой формуле, мы поймем, что Воплощение — это открытая для нас возможность. Наше Адамово тело мы получили благодаря рождению в мир; мы стяжаем наше тело Христово посредством нашего возрождения в Церкви. Вочеловечение Христа открывает — и указывает — нам путь к обожению человека ( теозис, о котором так много говорили Отцы-мистики). «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:26-27). То, что Павел высказал в этом отрывке и многократно повторил во всех своих Посланиях, выражено отцами в сжатой формуле: Christianus alter Christus — христианин это другой Христос.
Для фон Бальтазара, как и для Николая Кузанского, лицо Божье — не что иное, как только лицо Христа. Однако когда мы вступаем в общение лицом к лицу с Христом, каждое лицо отображает Его лицо:
Итак, осознавая, что это лицо есть истина и адекватнейшая мера всех лиц, я застываю в изумлении. Это лицо, которое есть истина всех лиц, — не количественно... Таким образом, я понимаю, Господи, что лик Твой предваряет всякое создаваемое [formabilem] лицо и является образцом и истиной всех лиц, и что все лица — это образы лица Твоего. .. Итак, каждое лицо, которое способно зреть Твое лицо, видит не что-либо иное или отличное от себя; оно видит собственную истину (VI, 18) [68].
Мы — иконы истины этого лица, истинные иконы (vera iсопа) Его лица, подобно первообразной и нерукотворной иконы с плата Вероники, о котором рассуждает Данте, вдохновляя Хорхе Луиса Борхеса на следующие слова:
Люди утратили один-единственный и ничем на земле не восполнимый лик. Кто бы теперь не хотел быть на месте того паломника (воображая себя уже в эмпиреях, под Розой), который увидел в Риме плат Вероники и простодушно прошептал: «Иисусе Христе, Боже мой, Боже истинный, вот, значит, какой ты был»?... Черты теряются, как теряется в памяти магическое число, составленное из обычных цифр, как навсегда теряется узор, на миг сложившийся в калейдоскопе. Позже мы его, возможно, видим, но уже не узнаем. Профиль еврея, встреченного сейчас в подземке, мог принадлежать Спасителю; руки, совавшие из кассы сдачу, — те же, которые римский солдат пригвождал к кресту. Может быть, черты распятого подстерегают в любом зеркале. Может быть, лицо исчезло, стерлось, чтобы Бог стал каждым [69].
Как мы уже убедились, икона воплощает этот поворот (так красноречиво описанный Николаем Кузанским) от позиции видящего к позиции видимого. Подобно его философскому синониму — просопон — икона также внутренне соотнесенна (relational ). Один из защитников иконопочитания во второй период иконоборческой полемики [70], патриарх Никифор, не обинуясь, обратился даже к Аристотелевой терминологии, чтобы определить икону как чисто соотнесенный феномен. Он заметил, что икона — это образ чего-либо (πρός τι), а значит, она указывает на отношение (согласно Категориям Аристотеля) [71]. Красноречивый нюанс: предлог πρός, помогающий нам понять подлинный статус иконы, оказывается в то же время префиксом слова просопон. Соотнесенный характер иконы, однако, не исчерпывается такими этимологическими нюансами. Прежде всего, он выражается в теологии. Ведь икона делает наглядным — буквально являет взгляду — все тонкости тринитарного и христологического догмата; а точнее, как показал кардинал Кристофер Шенборн, именно истины, выраженные в христианском учении, делают икону возможной. Ведь как иначе мы могли бы объяснить парадокс, которым притязает быть каждая икона, — а именно видимым образом невидимого Бога? Ответ на этот ключевой вопрос имеет значение для нашего обсуждения именно постольку, поскольку он демонстрирует соотнесенный (а значит, просопический) характер иконы.
Описание (или же очерчивание, περιγραφή) внешности Бога становится возможно благодаря Воплощению Второй Ипостаси Троицы в Иисусе. Ведь икона может изображать исключительно Иисуса, и только благодаря Его Воплощению (Отец и Святой Дух отнюдь не могут быть представлены на иконе). Христологическое обоснование здесь вполне очевидно: во Христе две радикально различные природы соединяются неслитно, но и нераздельно (согласно формуле IV Вселенского Собора в Халкидоне): невидимая, а значит, неизобразимая божественная природа, и видимая, а значит, изобразимая человеческая природа. Благодаря единению с последней, первая также оказалась в некотором смысле описуема, не только в историческом времени, но и в пространстве художественной репрезентации. На первом уровне, таким образом, икона являет нам отношение между двумя природами в лице Христа [72].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: