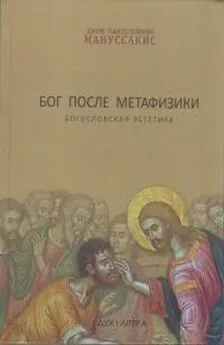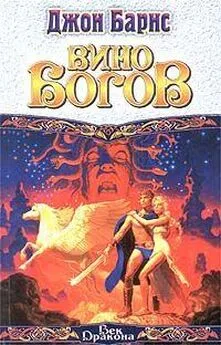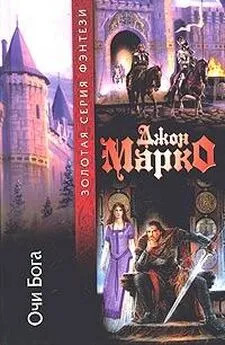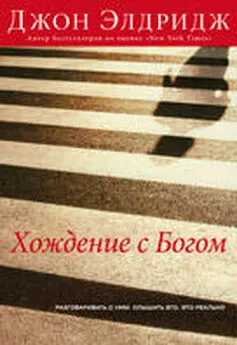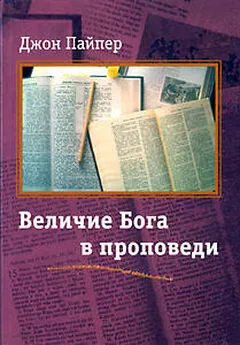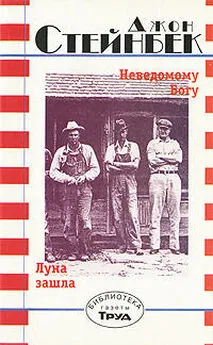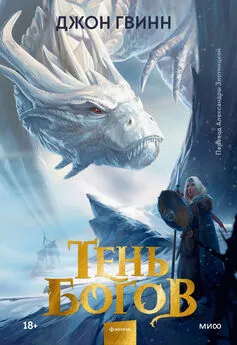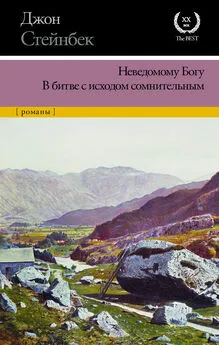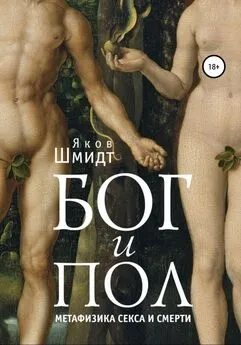Джон Пантелеймон Мануссакис - Бог после метафизики. Богословская эстетика
- Название:Бог после метафизики. Богословская эстетика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ДУХ І ЛІТЕРА
- Год:2014
- Город:Кiев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Пантелеймон Мануссакис - Бог после метафизики. Богословская эстетика краткое содержание
Отец Джон родился в Афинах (Греция) и получил образование в Соединенных Штатах (степень Ph.D. в Бостонском колледже). Труды автора посвящены философии религии, феноменологии (особенно Хайдеггера и Мариона), Платону и неоплатонической традиции, а также патристике.
Книга "Бог после метафизики. Богословская эстетика" посвящена феноменологическому анализу Богообщения. Автор предупреждает, что под эстетикой имеется в виду не наука о прекрасном, а эстезис— чувственное восприятие. В центре внимания книги — три основных чувства, с помощью которых мы можем познавать Бога — зрение, слух и осязание.
Исходный djvu —
.
Предание.ру - самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете: лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах; в свободном доступе, для всех.
Бог после метафизики. Богословская эстетика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда я уже пришел к этой структуре, разработал не кий скелет, который оставалось лишь облачить в плоть и кровь, путешествие в Мадрид снабдило меня послед ним ключом. При посещении музея Прадо мне довелось оказаться в так называемой «комнате пяти чувств». Таким образом аллегорические полотна Брейгеля очутились в предисловиях к каждой из частей этой книги. Из этих картин я почерпнул для себя немало нового — в том числе, об аллегории и анагогии, — но, главное, они научили меня, как то, что не может быть показано, становится видимым, будучи спрятанным на самом видном месте. Так в Брейгеле я узнал своего предшественника в области богословской эстетики: то, чего он добился в живописи, мы в настоящей книге стремимся достичь в философии.
Из сказанного уже должно быть ясно, что двумя главными ресурсами, из которых черпает наше обсужде ние, являются феноменология и герменевтика. Три ключевые структуры нашего исследования — зрение, слух и осязание — функционируют как различные горизонты, в которых феномен Бога может быть дан соответственно (или не соответственно) интенциям и интуициям как действиям сознания. Во всяком случае, в своих основных чертах мой анализ остается верен феноменологии, и даже там, где я пытаюсь преодолеть ее ограничения, я продолжаю пользоваться категориальным аппаратом Гуссерля и его последователей.
В то же время я позволяю себе обращаться и к Писаниям, которые будут часто приводиться и обсуждаться на этих страницах, — не столько как к воплощению догматических истин, сколько как к текстам, которые в нашей традиции постоянно формируют понятия и идеи о Боге. Святое Писание, более нежели какой‑либо иной текст, призывает к герменевтическим усилиям, о чем недвусмысленно свидетельствует долгая традиция экзегетических комментариев и толкований, к которой я здесь присоединяюсь.
Вопреки всем этим оговоркам, прилагательное «богословская» в нашем подзаголовке все‑таки является необходимым. Ведь речь идет, в конце концов, о Боге; не о религиозном феномене, не о религии в целом, — а о Самом Боге. Это никого не обязывает классифицировать мое исследование в качестве «теологии» (как особой научной дисциплины). Бог — никоим образом не монопольная собственность теологии. Начиная с первой философии Аристотеля, если не раньше, Бог также оста ется понятием — причем центральным — философского мышления. Тот факт, что Бог занимает столь важное место в метафизическом мышлении, невозможно прос то списать на «похищение» метафизики христианской Церковью, как поспешно заявляют многие. Согласно Хайдеггеру, это было изначально заложено в метафизике как таковой: «Теологический характер онтологии заключается поэтому не в том, что греческая метафизика позднее была воспринята церковным богословием христианства и им преобразована. Он заключается скорее в том способе, каким от раннего начала бытие как бытие вышло из потаенности» [17] Мартин Хайдеггер, Введение в «Что такое метафизика?» (Пер. В. Бибихина с изменениями) И Новая технократическая волна на Западе. Сборник статей. — М.: Прогресс, 1986.
. Именно это первоначальное откровение сущих в эпохальной истории Бытия и заставляет нас сегодня осмысливать и переосмысливать Бога после метафизики через призму эстезиса.
Иными словами, наше предприятие состоит в по пытке освободить Бога от навязанной Ему метафизикой трансцендентности ( эпекина ), учась распознавать образы Его прикосновения к нашей имманентности (энтафта) — то есть концентрируясь на Воплощении. На что‑то подобное, как мне кажется, намекает Хайдеггерово чтение анекдота, пересказанного Аристотелем, о том, как некие чужестранцы, пришедшие в гости к Гераклиту, обнаружили великого мыслителя греющимся у очага. Найдя его в столь обыденной обстановке, они разочарованы и растеряны; Гераклит, как сообщают, приветствовал их словами: «Здесь ведь тоже присутствуют боги!». От себя Хайдеггер заключает:
Και ενταύθα, «здесь тоже», у духовки, в этом обыденном месте, где каждая вещь и каждое обстоятельство, любой поступок и помысел знакомы и примелькались, т. е. обычны, «здесь ведь тоже», в среде обычного, είναι θεούς — дело обстоит так, что «боги присутствуют» [18] Мартин Хайдеггер, Письмо о гуманизме (пер. В. Бибихина).
.
Часть первая. Зрение
Что было от начала… видели своими очами
1 Ин: 1
«Ключ» к чтению трех аллегорических полотен Брейгеля таится неизменно в картине, изображенной на каждом из них. Чтобы расшифровать их значение, зритель должен изучить эти «привилегированные» картины, «спрятанные» в сюжетах Брейгеля. В общем, это касается и всякой аллегории: она всегда приглашает прочитать (и понять) ее в своих собственных категориях — скажем так, изнутри, а не извне. К примеру, «разгадку» аллегорического текста следует искать в нем самом. В картинах Брейгеля, художник (или точнее, само полотно) представляет как загадку, так и ее разгадку. Ключ к головоломке — в ней самой, спрятан на самом видном месте. В первом полотне, которое я решил здесь представить — Зрение — все кажется очевидным. Живопись, сама принадлежащая к визуальным искусствам, не могла не принести дань взгляду. Итак, на первый взгляд, нет ничего удивительного, что полотно, посвященное живописи, содержит в себе другие полотна (также как статуи и бюсты, представляющие скульптуру, телескопы и секстанты, представляющие астрономию, геометрические фигуры и приборы, одним словом, все, обращенное к зрению).
Однако, одна картина (Картина Б) занимает в композиции Брейгеля совершенно особое место. Похоже, это именно то полотно, к которому художник стремится привлечь наше внимание, — однако не делает этого сам (что было бы несколько бестактно), а доверяет это одному из своих персонажей — маленькому крылатому Эроту, представляющего картину вниманию Афродиты.
О чем же эта картина? При ближайшем рассмотрении становится понятно, что она изображает известный евангельский сюжет о чудесном исцелении слепого. Уместно, ничего не скажешь. В самом центре аллегории зрения созерцающему взору Афродиты (и нашему) предстает слепой. Именно в этом штрихе выражается гений Брейгеля. В картине, которая просто завалена объектами зрения, которая бесконечно играет с самими условиями видимости (отдаленный пейзаж, раскрывающийся за одной из дверей, интерьер самой комнаты, представленный в искусном перспективном сокращении), в этом пространстве, которое заключает в себе, замещает собою и исчерпывает все, что связано со зрением, живописец поместил в самом центре пронзительное напоминание об ограничениях зрения: слепоту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: