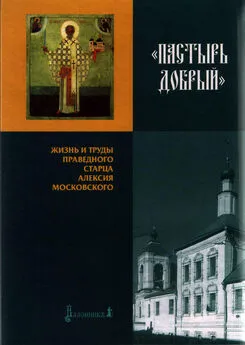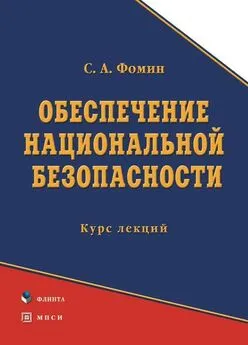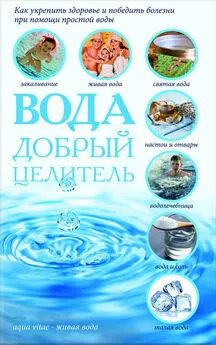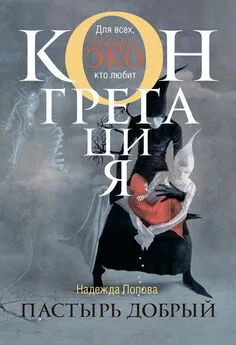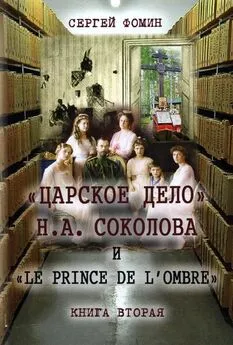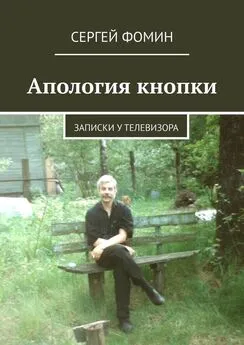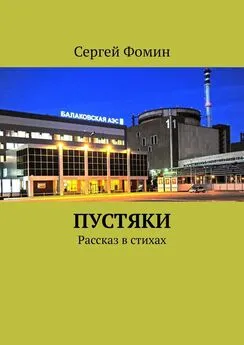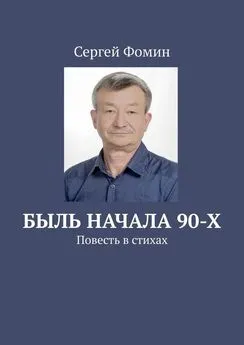Сергей Фомин - Пастырь Добрый
- Название:Пастырь Добрый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Фомин - Пастырь Добрый краткое содержание
«Пастырь Добрый» — наиболее полное собрание творений праведного Алексея Мечева и воспоминаний о нём, составленное и прокомментированное Сергеем Фоминым.
Пастырь Добрый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этом письме Батюшка обращает особенное внимание на борьбу с помыслами и искушениями. Дурные мысли — один из сильнейших врагов всякого, идущего к Господу. Они изгоняются усердной молитвой и затем работой, чтением и вообще каким–либо серьезным делом.
Относительно молитвы следует заметить, что Батюшка, следуя словам Апостола: «Непрестанно молитеся» (1 Сол. 5:7), учил молиться во всякое время и на всяком месте: «Идешь по улице, делаешь ли что–либо руками, сидишь ли в вагоне — твори молитву». Особенно рекомендовал Батюшка молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
Затем Батюшка, как сам не любил праздности и безделья, так и другим указывал, что праздность является главной причиной дурных помыслов и желаний. «Ты думаешь, — говорил он мне, — у меня нет помыслов, нет искушений? И у меня есть они, но они не владеют мною, потому что я все время занят: или молюсь, или принимаю народ, или служу. Так и ты: будь все время в кипении, в работе, и будешь свободен от дурных мыслей». Безделья не любил Батюшка, и всегда ставил на вид какому–нибудь подпавшему под соблазн человеку: «Делать тебе нечего, вот и блажишь!»
Батюшка удивительно умел подмечать только еще зарождающиеся недостатки, которые другим не были заметны. Так, заметив во мне забвение долга и некоторую распущенность, он пишет: «Тебе нужно владеть собою, привить чувство долга, развить в себе волю». «Сила воли, — говорит Батюшка, — это не одно и то же, что упрямство. Когда ты настаиваешь на своем из чувства собственной выгоды или противоречия, то не воображай, что ты человек сильной воли. Равным образом, если ты воздерживаешься от чего–либо, что не сильно привлекало тебя, то ты также не можешь быть назван таковым человеком. Если же ты настаиваешь во имя послушания или воздерживаешься, имея к предмету воздержания неодолимое и крепкое влечение, то ты действительно показываешь силу воли. И особенно важно, по мнению Батюшки, было проявить силу воли в мыслях и желаниях, потому что от них рождаются действия, а кто не оказал себя сильным в отсечении мыслей, вряд ли может проявить эту силу в отстранении действий, проистекающих из мыслей.
«Спасти себя — спасти других», — это, можно сказать, девиз Батюшки, с которым он шел и работал всю жизнь [176]. Этим девизом он всегда указывал критикам, что христианство не есть идеалистический эгоизм, духовная ипсоцентрика. Он всегда говорил, что христианин думает прежде всего о спасении ближних, а потом уже и о своем спасении. «Живи для других — и сам спасешься». А это происходит почти механически, без всякого особенного внимания к своему личному спасению. Если ты живешь для других, то этим самым ты должен быть им примером доброго христианина, — иначе не спасешь их, а погубишь. И в данном случае воздержание, подвиг, очищение совести есть не столько забота о своем личном спасении, сколько выработка в себе человека, могущего своим нравственным примером зажечь сердца многих.
Когда я, после многих своих нравственных падений приходил к Батюшке и, плача, говорил Батюшке, что «вот уже все кончено, — и нет мне спасения», то Батюшка всегда, как и в этом письме, говорил мне: «Велик не тот, кто никогда не падал, а кто падал и умел вставать». Случайное падение, под влиянием тех или иных обстоятельств совершившееся, не есть признак нравственной гибели. Поелику ты тотчас же сознал, что согрешил, и слезно каешься в необдуманном поступке, — этим самым ты доказываешь, свое нравственное понимание вещей. Нравственно погиб тот человек, кто от случайного падения со спокойной совестью продолжает падать и в дальнейшем, опускаясь все более и более в бездну. Батюшка, поэтому, всегда остерегал людей, слишком строго относящихся к своим случайным падениям, и указывал, что уныние и отчаяние могут повести к полному моральному кризису души. Многие, как и сам Батюшка мне рассказывал, удивлялись, что «как же это, дескать, меня, такого великого грешника, падшего, — Батюшка не наказывает, не накладывает никакой эпитимьи и тотчас же допускает к причастию?» Да, Батюшка избегал юридических мер в исправлении грешника, и именно потому, что эти меры менее всего действуют на душу грешника, а, наоборот, ласка, любовь, отеческое предостережение, как целительный бальзам, умягчают сердце и возгревают раскаяние. Этим отличались все исповеди Батюшки.
Батюшка, надо сказать, исповедывал очень быстро, что многих приводило в смущение и заставляло даже осуждать Батюшку. Но эта быстрота происходила не от того, что у Батюшки было слишком много исповедников, а оттого, что Батюшка умел в немногих словах дать человеку все, что ему было нужно. Иногда приходил к нему человек, не успеет и слова сказать, а Батюшка уже дает ему отпущение. Что же это значит? Значит ли это, что Батюшка небрежен в таинстве? Нет, это значит, что Батюшка прозорливым оком уже видел этого человека, знал, зачем он пришел и в чем будет каяться, — и прощал его. Совершилась ли здесь исповедь? Совершилась. Смотрите: человек отходит от аналоя с умиротворенным, светлым лицом.
Батюшка всегда был противником книжного формализма в исповеди. Он часто говорил мне: «Знаешь ли, в монастырях очень принято исповедывать по требнику. А я всегда стоял против этой практики. В требнике есть многие вопросы, многие грехи, о которых исповедник, может быть, и не догадывался. Подойдет к исповеди какая–нибудь чистая неиспорченная девушка, а ее спрашивают о таких пороках, о которых она и представления не имеет. И вместо очищения выйдет грех и соблазн. Всегда нужно не человека приспосабливать к требнику, а требник к человеку. Сообразно с тем, кто подходит к твоему аналою, — мужчина ли, женщина ли, подросток ли, ребенок ли, — и нужно вести исповедь. При этом не следует вдаваться в подобные вопросы, особенно об интимных грехах. Эти расспросы могут только потревожить душу исповедника, а никак не успокоить. Лучше всего дать человеку самому рассказать все, что он имеет на душе, а потом уже задавать вопросы, по мере надобности».
Батюшка так и начинал исповедь: «Ну, рассказывай — чем грешен?» И сразу же замечал основной недуг, разъедающий душу исповедника, и тут же давал врачевство против этого недуга. Батюшка был прозорлив, — это и давало ему право отступать от сухого формализма в исповеди. Он понимал, что цель исповеди не в юридической сатисфакции Бога человеком, что исповедальня не суд, не трибунал, а «врачебница» (см. Требник). Поэтому Батюшка на исповедях никогда не был судьей карающим, а врачем–целителем, чудесно исцеляющим самых безнадежных больных. Этим и объясняется его доброта и снисходительность к падшим и упавшим. Слова: «Не бойся, Я с тобою!» — принадлежат также к числу часто повторяющихся Батюшкой слов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: