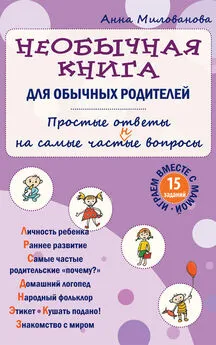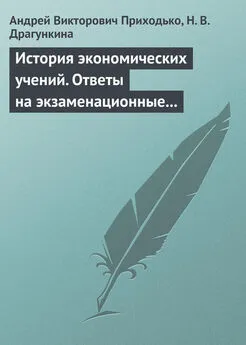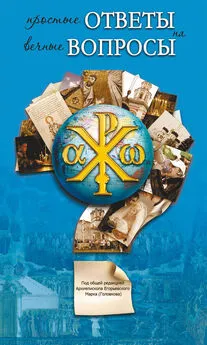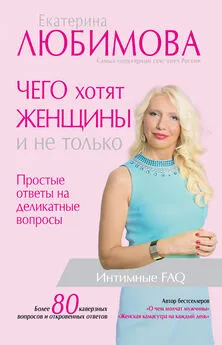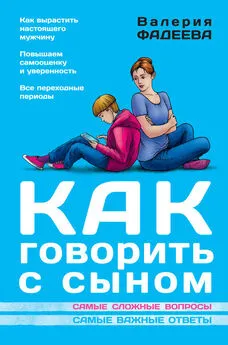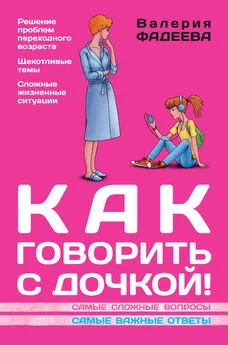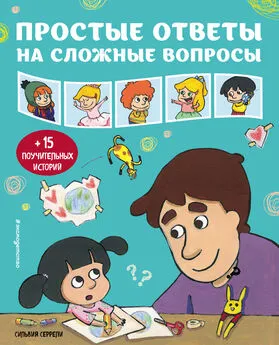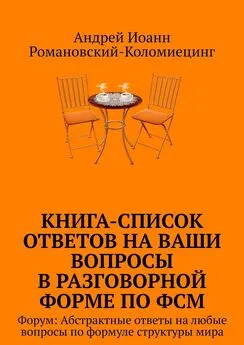Андрей Ткачев - Почему я верю. Простые ответы на сложные вопросы
- Название:Почему я верю. Простые ответы на сложные вопросы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Никея
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-531-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ткачев - Почему я верю. Простые ответы на сложные вопросы краткое содержание
Почему я верю. Простые ответы на сложные вопросы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И, помимо монашества, внутри Церкви всегда было множество людей, которые тяготели к странничеству, юродству и прочим не менее радикальным, но менее заметным и менее понятым формам протеста против мирского диктата.
Но и в миру Церковь не призывает быть «Акакием Акакиевичем». Если православный христианин оказался на какой-то очень важной государственной должности, Церковь вправе сказать ему: «Ты раньше делал карьеру для того, чтобы прославиться и превознестись, теперь, как верующий человек на ответственном посту, ты должен будешь отдавать себя своему делу и быть готовым положить свои кости ради того, чтобы жить в стране стало легче и лучше. Забудь про спокойную жизнь, оставь позади тщеславие, приготовься иметь много врагов и делай то, что нужно». И такой человек вовсе не будет паинькой, склонным подписывать все приносимые ему бумаги. В любом случае Церковь зовет человека к служению.
Бездерзновенная инерция веков
— Почему же подлинного дерзновения так мало в сегодняшней церковной жизни?
— Видимо, психология церковного человека несет в себе следы прежних эпох.
Мы проживаем какую-то серьезную инерцию нескольких прошедших столетий. Синодальный период [32] Общепринятый термин в периодизации истории Русской Православной Церкви, когда высшим органом управления Церкви был Священный Синод, т. е. 1700–1917 годы.
был для Церкви очень специфическим — это было время чиновничьего всесилия и церковного бесправия. Петербургский период был одной из интереснейших и великих эпох в российской истории, но вместе с тем Церковь в этот период была по-настоящему обескровлена и превращена в какой-то обслуживающий чиновничий аппарат, в одно из министерств. А потом уже советская власть прошлась каленым железом по церковной жизни, собрав огромную жатву мучеников и исповедников. На долю тех, кто остался в живых, как раз и выпала эпоха, когда «праведник молчит, ибо это злое время». И они, верующие советского времени, замолкли, утаились. Они берегли веру, проповедовали ее, где можно было, но чаще это были слова, сказанные на ухо, чем открытая и гласная проповедь.
Эта инерция мышления досталась по наследству нам. Сменились эпохи, и, по идее, время говорит нам: «Теперь идите в институты, в школы, в воинские части, проповедуйте всюду — на стадионах, в больницах, в тюрьмах! Везде благовествуйте имя Господа Иисуса Христа!» Но это так легко сказать, а — попробуй перестроить церковно-общественную психологию, если за спиной несколько веков вынужденного молчания…
И кроме того, идеал церковного человека сегодня у нас не сложился. Каков, например, идеал православного предпринимателя? Каким должен быть современный православный студент или верующий рабочий? Молодая православная семья — как в ней постятся, сколько в ней должно быть детей, живет ли она вместе с родителями или отдельно? Православный человек, работающий кинорежиссером или актером, — кто он?
Над выработкой архетипов «работают» целые столетия, у нас же прошло еще очень мало времени — немногим больше 20 лет.
О молитве на пределе сил
— Возвращу Вас к началу нашей беседы. Мы говорили о том, что верующий человек сочетает молитву и деятельность. Но вот он столкнулся с труднопреодолимыми препятствиями. До какой поры он обязан пытаться преодолеть это препятствие, а когда он должен отступить и дать место Богу?
— В книжке о генералиссимусе Суворове, я помню, прочел такие слова: «Суворов внимательнейшим образом занимался своей собственной работой в ставке, в штабе, с картами, на местности, с офицерами, разрабатывая план будущей операции, и, только когда ему было все ясно, он начинал молиться, чтоб Бог благословил его дело. И тогда уже шел, с Богом, вперед!»
Я думаю, это пример правильного отношения. Нужно сделать все необходимое — на предприятии или в семье, при покупке или продаже квартиры, при поиске докторов для больного родственника или учебного заведения для ребенка — до предела собственной компетенции.
Знаете, как в притчах Соломоновых говорится: «Коня готовят на день боя, но победа даруется от Господа» [33] См. Притч. 21: 31.
. Победа от Господа, но ведь… коня нужно приготовить! Очевидно, такой подход должен быть во всем остальном.
Исключительные случаи могут быть. Как, например, переход евреев через Чёрмное море: когда позади фараон, а впереди — море и спасти может только чудо. Или когда врач в бессилии спасти больного разводит руками, а ты все еще продолжаешь молиться, чтобы он ожил, воскрес и выздоровел, — такая молитва бывает услышана Богом. Но это уже область других вещей, тех, которые не совершаются ежедневно. Было бы ужасно, если бы мы заставляли Бога творить чудеса на каждом шагу, — например, останавливать поезда, на которые мы опаздываем… Или еще что-нибудь в этом роде.
Беседа третья
Христианство и религии мира
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
Ин. 15:23Бывает так, что в поисках истины человек не испытывает сомнений в том, дверь какого храма открыть. Тем более если это человек, живущий в исстари православной стране. Но ведь бывает иначе.
Кроме того, даже если мы уже не можем назвать себя иначе, чем православными христианами, рано или поздно перед нами встанет вопрос — а как же те, кто верит иначе, чем мы, — в Будду, Аллаха или Кришну? Неужели все они бесповоротно и трагически заблуждаются, а мы имеем право (или даже обязанность) указывать им, в чем именно они неправы? Что сказать о распространенном мнении, гласящем, будто все религии ведут на Небо, только разными путями?
Об этом — наша третья беседа с протоиереем Андреем Ткачевым.
Часть I
Бог есть. Что дальше?
— В первой беседе, говоря о вере и неверии, мы «оставили» ищущего человека на том моменте, когда он так или иначе, но все-таки приходит к убеждению, что Бог есть. И дальше он оказывается перед всем многообразием современного религиозного мира. Что дальше? Как ему в этом многообразии разобраться?
— Дальше человек очень часто становится заложником того, кто поговорит с ним первым. Кто первым уделит ему внимание, тот, по сути, купит его на долгие годы. Если, например, на разговор с человеком у меня, как у священника, не хватило времени, он вышел из храма и тут его встретил протестантский проповедник с вопросом: «А что Вас тревожит?» — «Да вот это…» — «Так я сейчас Вам все расскажу!» И считайте, что мы потеряли человека надолго. Многое зависит от того, кто первым проявит заинтересованность и позовет в свою общину.
Авраамические религии — иудаизм, ислам, христианство — не вверены отдельному человеку, они предполагают наличие общины. Я же не могу верить в Бога один! Я должен быть с единоверцами,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: