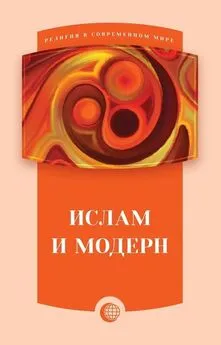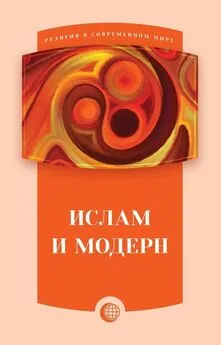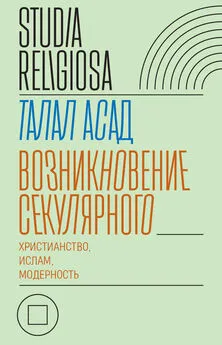Абдольхосейн Хосроупанах - Ислам и модерн (сборник статей)
- Название:Ислам и модерн (сборник статей)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Садра
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-906859-55-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абдольхосейн Хосроупанах - Ислам и модерн (сборник статей) краткое содержание
Ислам и модерн (сборник статей) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Власти не без оснований видели в фундаменталистах угрозу status quo и основную движущую силу массового движения против правящего режима и, дабы лишить интеллигенцию эффективного инструмента борьбы, попытались перехватить инициативу, завладев знаменем фундаментализма. Именно поэтому вплоть до середины 1970-х гг. в официальной культурной политике страны всегда присутствовали такие понятия, как «культурная самобытность», «возвращение к корням» и «возврат к культурному наследию и культуре прошлого» (Пахлаван, 1353 (1974): 55). Тем не менее политика режима сильно отличалась от установок оппозиционных интеллектуалов. Если для последних в их поисках самобытного, «третьего пути» антизападничество было ключевым элементом, то культурная политика властей оппозиции Западу не подразумевала. Кроме того, говоря о «корнях», режим имел в виду доисламское прошлое, тогда как фундаменталистская интеллигенция ратовала за «самость» как возрождение ислама.
Поскольку в своей политике правящая элита ориентировалась на консерватизм в сочетании с признанием авторитета Запада, интеллектуалы-фундаменталисты, стремились отстраниться от офицальной власти (Ашури, 1348, с. 72), сформировав в итоге массовое движение, которое с этим режимом и покончило.
Заключение
Как следует из материалов данной статьи, в позициях интеллектуалов России и Ирана имеется немало параллелей, хотя они и не возникли синхронно. Обе страны принадлежат к регионам, поздно включившимся в процесс модернизации, а потому переживающим модерн как явление привнесенное, насильственно насаждаемое сверху (государством) в форме прозападной идеологии. В то же время наличие традиционных деспотических государств сыграло особую роль в характере обращения к модерну обеих стран и осмыслении его социокультурных последствий. В условиях отсутствия гражданского общества, каких-либо политических партий и общественных организаций, не говоря уже о профсоюзах, интеллектуальная элита этих стран была отчуждена от государственного управления и политики, не имела возможности возглавить публичную сферу и определять пути развития своих стран. В то же время и в России, и в Иране знакомство с модерном совпало с появлением групп интеллектуалов, стремившихся к культурному обновлению. Причем на начальном этапе, поддержав вестернизацию своих обществ, интеллектуальная элита в значительной степени отдалилась от народа и автохтонной культуры своих стран. Однако закрытость всей политической системы и накладываемые ею ограничения на прогресс и развитие социального партнерства рассеяли надежды интеллектуалов на модернизацию. Разгром движения декабристов в России и переворот 1953 г. в Иране и, как следствие, дальнейшее укрепление авторитаризма усилили чувство разочарования и привели к кризису идентичности: интеллектуалы оказались, с одной стороны, оторваны от народа, культуры и истории своих стран, а с другой — отстранены от государственного управления. В поисках путей выхода из этого кризиса и разочаровавшись в существующей политической системе, интеллектуалы повернулись лицом к народу и, опираясь на него, возглавили борьбу против правящего режима. В условиях, когда не было возможности бороться напрямую, лозунг самобытной культуры превратился в эффективный инструмент критики проводимой властями политики. Как русские, так и иранские фундаменталисты настаивали на том, что, навязывая западную культуру и подражая привнесенным извне образцам, режим подрывал естественную жизнь народа и уничтожал его культурную идентичность, обрекая тем самым на глубокий кризис все общество. В обеих странах дискурс фундаменталистов имел в основании теорию социального органицизма и акцентировал требование возвращения к культурной самобытности. В нем также явственно ощущается влияние немецкого романтизма с присущей последнему критикой Просвещения и современной западной культуры как выродившейся и охваченной кризисом. Таким образом, в обеих странах интеллектуальное противостояние Западу и борьба с режимом оказались тесно переплетны друг с другом.
Кроме того, фундаменталисты обеих стран претендовали на помощь Западу, обещая вернуть ему духовность, сохраненную русской или ирано-исламской культурой. Именно в этом моменте скрывается серьезный мировоззренческий парадокс: отрицая универсализм культуры как таковой и универсализм западной культуры, в частности, сам фундаментализм, с его претензией на спасение Запада, по сути, позиционировал себя как еще один вариант универсализма. Эти амбиции полномасштабно проявились после Октябрьской революции в России и Исламской революции в Иране, оформившись в идею их миссии по спасению человечества и установлению справедливости во всем мире.
Поскольку культурный фундаменализм в Иране и России стремился к реинтерпретации прошлого с целью преодоления отсталости и удовлетворения общественных нужд в условиях модерна, это интеллигентское движение следует оценивать как прогрессивное, направленное на достижение изменений в обществе, и необходимо воздерживаться от того, чтобы рассматривать его как утопическое представление, сопровождающееся чувством ностальгии по отношению к весьма отдаленному прошлому. Это не означает, что дискурс культурного фундаментализма направлен на построение демократической политической структуры, потому что заложенный в нем догматизм ограничивает возможность построения подобной структуры.
До настоящего момента мы заостряли внимание больше на сходствах между культурным фундаментализмом в Иране и России. Однако следует иметь в виду, что эти параллели нельзя продолжать дальше, поскольку различные исторические и культурные условия двух стран порождают в той же степени различные процессы и последствия. Сфера этих несоответствий в ходе модернизации обеих стран настолько обширна, что убеждает нас в правомерности подхода, основанного на «множественных современностях» [116] Ссылка на теорию «множественных современностей» (multiple modernities) современного американо-израильского социолога и специалиста в области компаративного изучения цивилизаций Шмуэля Н. Эйзенштадта (1923–2010) (прим. пер.).
. Использование историко-социологического метода при проведении настоящего исследования было оправдано именно тем, что в течение обсуждения данных проблем мы можем включить в свой анализ не только сходства, но и несоответствия. Наличие этих несоответствий в истории и культуре двух стран привело к тому, что фундаментализм в них развивался по-разному и сыграл разные роли в будущем этих стран.
Если мы видим, что в России накал антизападничества был куда мягче, чем в Иране, где антизападничество проявило себя ярче и глубже, то это обусловлено тем, что русские фундаменталисты считали свою страну частью Запада, тогда как в Иране Запад рассматривался как «другой» по отношению к ирано-исламской самобытности, а потому с ним было необходимо бороться, как с врагом, вплоть до полного разгрома. В связи с этим понятие помощи Западу обретало разные смыслы в русском и иранском фундаментализме. В России «помощь Западу» имела значение исправления и дополнения западной культуры, тогда как в Иране она означала спасение западных людей от господства упаднической культуры путем полного свержения этого господства. Вероятно, одной из основных причин антизападничества в Иране была более глубокая и ускоренная модернизация сверху, а следовательно, особенно яркие проявления модерна более прочно укоренились, и произошло это в сжатые временные сроки. Ускоренные темпы мобилизации в Иране сопровождались значительными последствиями для культуры, ущемляя интересы традиционного и нового среднего класса, выходцами из которого были в основном идеологи фундаментализма. При этом русские интеллектуалы фундаменталистской направленности представляли дворянское сословие и аристократию. История показала, что среднему классу, в особенности принадлежащему к традиционной части общества, всегда был присущ больший радикализм. Эта особенность может также объяснить специфику революционных процессов в России и Иране. В России в связи с умеренностью фундаментализма так и не появилось интеллектуалов, которые смогли донести его в виде идеологии до народа, а потому он остался лишь на академическом уровне, уступив место радикальным социалистическим и марксистским группам. Конечно же, нельзя отрицать влияние славянофилов на социализм, однако этот вопрос представляет собой тему для отдельного исследования. В Иране культурный фундаментализм был настолько радикален, что с появлением таких понятий, как «обязательства и усердие» в третьем мире, появились интеллектуалы-практики, которые донесли фундаментализм до людей в виде идеологии, запустив массовое движение, в относительно короткие сроки вылившееся в революцию и образование нового государства. Революция вывела фундаменталистское движение из разряда оппозиции и привела его к власти, нарушив тем самым его социальную последовательность, потому что теперь оппозиция стала искать иной идеологии, с помощью которой она могла бы бросить вызов власти. При этом в России фундаменталистам так и не удалось захватить власть, а потому фундаментализм продолжал существовать как оппозиционное интеллигентское движение в виде своего рода культурного национализма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: