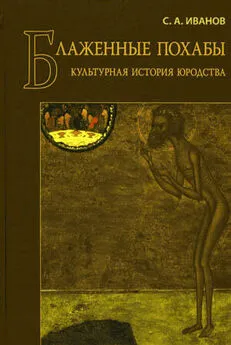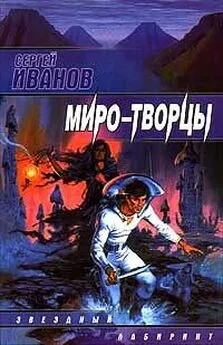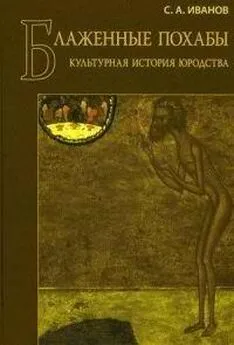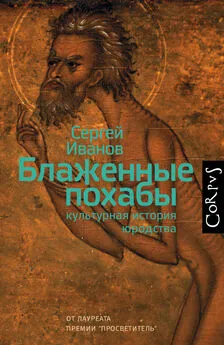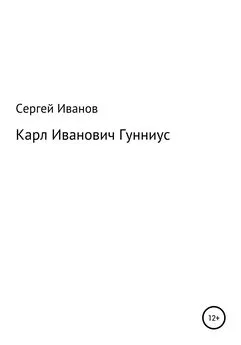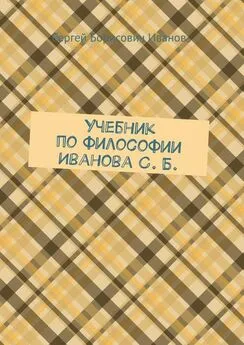Сергей Иванов - БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ
- Название:БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:А. Кошелев
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0105-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Иванов - БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ краткое содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Едва ли не самый знаменитый русский храм, что стоит на Красной площади в Москве, мало кому известен под своим официальным именем – Покрова на Рву. Зато весь мир знает другое его название – собор Василия Блаженного.
А чем, собственно, прославился этот святой? Как гласит его житие, он разгуливал голый, буянил на рынках, задирал прохожих, кидался камнями в дома набожных людей, насылал смерть, а однажды расколол камнем чудотворную икону. Разве подобное поведение типично для святых? Конечно, если они – юродивые. Недаром тех же людей на Руси называли ещё «похабами».
Самый факт, что при разговоре о древнем и весьма специфическом виде православной святости русские могут без кавычек и дополнительных пояснений употреблять слово своего современного языка, чрезвычайно показателен. Явление это укорененное, важное, – но не осмысленное культурологически.
О юродстве много писали в благочестивом ключе, но до сих пор в мировой гуманитарной науке не существовало монографических исследований, где «похабство» рассматривалось бы как феномен культурной антропологии. Данная книга – первая.
БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
« Коль скоро мудрость мира сего есть глупость пред Господом , возвращайся восвояси и стань там неузнаваем для близких »… Сколько зла , сколько насмешек претерпел сей муж не только от чужаков , но и от собственных домашних и даже родственников , невозможно и рассказать … Все , что оставалось у него от еды , он тайно распределял среди нуждающихся . А по вечерам он выходил из города и направлялся в дом некоей вдовы , своей дальней родственницы . Там он брал светильник и шёл в церковь святой Богородицы Марии , заброшенную горожанами по причине её ветхости [DCCLXXIV] [DCCLXXIV] Неизвестно в точности, о какой именно церкви Богородицы идёт речь – их в Александрии было несколько, см.: Butler A. J. The Arab Conquest of Egypt. Oxford, 1902, p. 372, 385. Наиболее вероятна та, что располагалась на самом востоке города, около стен (Chronique de Jean, Eveque de Nikiou / Par H. Zotenber. Paris, 1883, p. 524, 548).
, и проводил там целые ночи в песнопениях и хвалах духовных . Проклятый , когда стемнело , пошёл за [ юродивым ], держась на почтительном расстоянии , и дошёл до церкви . В течение долгого времени грешник наблюдал , как он молится , и , решив , что это тот самый человек , о котором говорил старец … пал пред ним ниц и стал лобызать его стопы [DCCLXXV] [DCCLXXV] Mussafia A. Uber die von Gautier de Coincy benutzten Quellen, S. 27.
.
По просьбе грешника юродивый заступился за него перед Богородицей, и она сняла проклятие. Святой предупредил, чтобы прощённый никому не рассказывал о происшедшем вплоть до его смерти, которая и случилась через неделю [DCCLXXVI] [DCCLXXVI] Ibid., S. 28.
.
Эта легенда стала весьма популярна на Западе. Уже в начале XIII в. она была переведена на старофранцузский язык монахом Готье де Куанси [DCCLXXVII] [DCCLXXVII] Les miracles de la Sainte Vierge / Par Gautier de Coincy. Paris, 1857, p. 573-592. Видимо, Готье де Куанси принадлежит авторство западного термина для юродивого «fu рог Dieu».
, а в XIV в. текст Готье лег в основу [DCCLXXVIII] [DCCLXXVIII] Jensen Η. С . Die «Miracles de Notre Dame par personnages» untersucht in ihrem Verhaltnis zu Gautier de Coincy. Bonn, 1892, S. 16-25.
одного из сюжетов в составе мистерий «Чудеса Богородицы» [DCCLXXIX] [DCCLXXIX] Miracles de Nostre Dame par personnages. V. 3. Paris, 1878, p. 8 sqq.
. Хотя греческий оригинал легенды до нас не дошёл, нет ни малейших оснований сомневаться, что в ней в той или иной форме было использовано какое-то византийское житие. Об этом говорит не только место действия, но и хорошо знакомый нам сюжетный рисунок. Западной инновацией могла быть фигура самого проклятого (ср. с. 262).
Другая латинская легенда, также не имеющая греческого прототипа и также привязанная к Египту, – это сказание «Дурак» [DCCLXXX] [DCCLXXX] Chanzand J. Fou. Dixieme conte de la vie des Peres. Geneve, 1971.
. В нём повествуется о том, как три клирика одной египетской церкви уходят странствовать: один, Dieudonne (видимо, перевод греческого имени Феодот), – в Антиохию, второй, Bonifacius (греческое Евпраксий?), – в Иерусалим, а третий, Felix (Евтихий?), – на Запад. В дальнейшем рассказ ведётся лишь об этом последнем. Он приходит в город Безансон, где начинает прикидываться безумцем, специально напрашиваясь на преследования толпы. Впрочем, со временем про него начинают поговаривать, что он – притворный сумасшедший и подлинный святой. Чтобы избавиться от поклонения, Феликс уходит в монастырь Ситэ [DCCLXXXI] [DCCLXXXI] Ibid., v. 992-995.
.
Обе эти легенды свидетельствуют, что в народно-религиозном сознании Запада юродство воспринималось как весьма действенная и несколько экзотичная форма восточной святости [134] [134] Любопытно, что «восточный» след легенды о Феликсе позднее истаивает: уже в первой половине XIV в. под пером Жана де Сен-Квентин святой оказывается французом, а жизнь заканчивает архиепископом Безансона.
. Впрочем, даже здесь сказывается и некоторое весьма существенное различие между восточным и западным восприятием этого феномена: если византийские святые чаще заканчивают жизнь в городе, подвизаясь в юродстве, то Феликс, начав путь святости юродством, потом всё-таки уходит в монастырь [DCCLXXXII] [DCCLXXXII] См.: Fritz J.-Μ. Le discours, p. 314.
.
Колоссальным успехом на Западе пользовалось ещё одно, достоверно византийское житие – легенда об Алексии Человеке Божьем. Мы уже говорили, сколь популярна была она в православном ареале (см. с. 83, 236). В 977 г. архиепископ Сергий Дамасский, бежав в Рим, видимо, принёс с собой и житие Алексия, которое вскоре было переведено на латынь и широко распространилось по всей Европе. Её изводы известны на множестве языков, от староиспанского до старочешского [DCCLXXXIII] [DCCLXXXIII] Литературу см.: Мурьянов Μ. Φ. Алексей Человек Божий в славянской рецензии византийской культуры // ТОДРЛ. Т. 23. 1968; Муравьев А. В., Ту рилов А. А. Алексий, человек Божий // ПЭ. Т. 2. 2001, с. 8-12.
. Однако Запад заострил как раз противоположный юродству «край» легенды – не момент возвращения, а момент ухода [DCCLXXXIV] [DCCLXXXIV] De Gaiffier В. «Intactam sponsam relinquens». A propos de la Vie de S. Alexis//AB. V. 65, 1947, p. 161-184.
. На Западе легенда служила идеалам добровольной бедности и странничества [DCCLXXXV] [DCCLXXXV] Crieyszlor A. Dobrowolne ubostwo, ucieczka ob swiata i sred-niowieczny kult sw. Aleksego // Polska w swiecie. Warszawa, 1972, s. 21-40.
, а также безбрачия [DCCLXXXVI] [DCCLXXXVI] Sekommodau H. Alexius in Liturgie, Malerei und Dichtung // Zeitschrift fur romanische Philologie. Bd. 2. 1956, S. 180.
, а отнюдь не юродства.
До сих пор мы говорили о легендах, заимствованных латинским миром у православного. Посмотрим теперь, что Запад создал своего. Оказывается, что в сфере массовых представлений здесь существует значительное отличие от Востока. Весьма красноречивой представляется этимология романского слова cretin. В современном французском языке оно означает «слабоумный», но восходит при этом к латинскому christianus [DCCLXXXVII] [DCCLXXXVII] Tresor de la langue frangaise. V. VI. Paris, 1978, p. 472.
. Следует ли из такого развития семантики, что истинным христианином считался безумец? Никоим образом. Дело в том, что если в Провансе и в Альпах этим эвфемизмом действительно обозначались идиоты, то в Гаскони с XI по XV в. он же прилагался к прокаженным [DCCLXXXVIII] [DCCLXXXVIII] Sainean L. Les sources indigenes de l'etymologie frangaise. V. I. Paris, 1925. p. 285.
. Тем самым импликация здесь состояла отнюдь не в том, что только сумасшедший может достичь истинных глубин христианства, а в том, что даже сумасшедший (или, соответственно, прокаженный) является всё-таки христианином и как таковой заслуживает сочувствия.
Если в византийском фольклоре «дурак» – фигура позитивная, то в западном – отрицательная. Даже такой специфический фольклорный персонаж, как «умный дурак», вроде Маркольфа или Уленшпигеля, совершенно не напоминает восточного юродивого, скорее уж шута, столь популярного в Европе [DCCLXXXIX] [DCCLXXXIX] См.: Lever М. La sceptre et la marotte. Histoire des Fous de Cour. Paris, 1983.
. Шут своими проделками высмеивал недостаточность благочестия, а юродивый – благочестие как таковое, в земном его понимании.
Интервал:
Закладка: