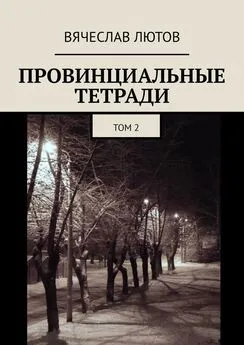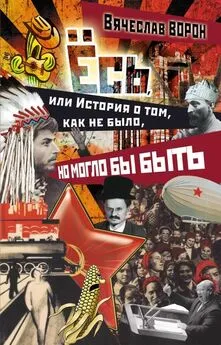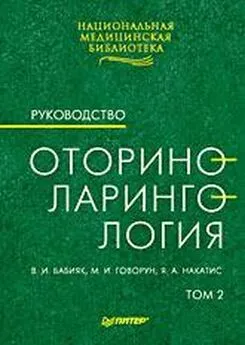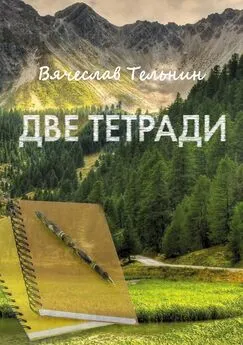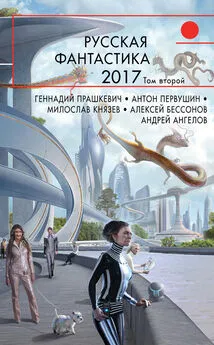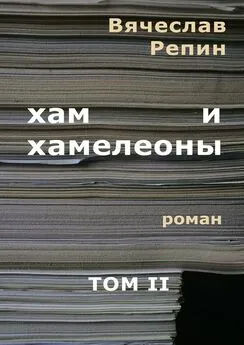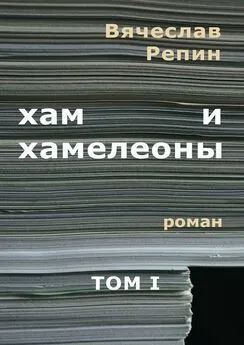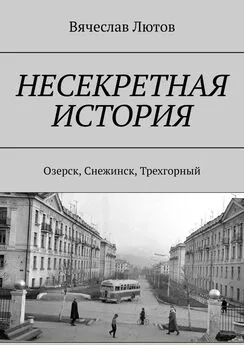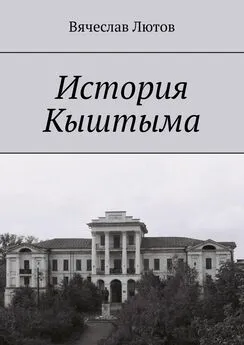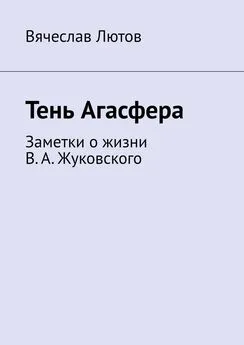Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 2
- Название:Провинциальные тетради. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449872289
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 2 краткое содержание
Провинциальные тетради. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стало быть, двойственность образа Христа лежит вне библейских источников.
Гораздо вернее искать ее истоки во времени двоеверия (если обратиться к истории) – в той самой эпохе, когда «язычество примеряло на себя христово рубище». У Блока как раз этот мотив выражен чрезвычайно ясно:
Ты прости нас, старушка ты божия,
Не бери нас в Святые Места!
Мы и здесь лобызаем подножия
Своего полевого Христа…
В цикле «Родина»:
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе…
Кто же это – «свой Христос»?
С. С. Аверинцев в одной из статей, посвященных славянству и византийству, приводил в пример одно из обозначений такого мифологического Христа: Спас Ярое Око. Вот оно, то парадоксальное сочетание, так мучившее Блока: спасение и ярость.
Присмотримся еще раз к строчкам Блока.
В первой книге стихов:
Что сожалеть в дыму пожара,
Что сокрушаться у креста,
Когда всечасно жду удара
Или божественного дара
Из Моисеева куста…
(1902)
Во второй книге стихов:
И он потребует ответа,
Подъемля засветлевший меч…
(1907)
Наконец, все в том же стихотворении о дедах – «Задебренные лесом кручи»:
И капли ржавые, лесные,
Родясь в глуши и темноте,
Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе…
(1914)
И еще одна деталь:
Но не спал мой грозный Мститель,
Лик его был гневно-светел
В эти ночи на скале…
(1913)
Попробуйте прочитать финал «Двенадцати» в этом ключе – и смысл поэмы переменится в какой уже раз! Восприятие Христа как единства спасения и ярости дает возможность говорить об особом суде над революцией, и, если брать шире, о суде над Россией. Бунтарский дух уже наказан яростной вьюгой – смертью; но вместе с тем остается еще возможность спасения. Здесь Блок был внимательным читателем Достоевского: «Распни его, судия, да после пожалей…»
Опять вернемся к дневнику 1918 года, где Блок по поводу своего «вьюжного Христа» восклицает: «Как я его ненавижу!» Назвать блока за это атеистом – грубейшая ошибка: из всего соцветия серебряного века он, пожалуй, самый религиозный поэт. Да и верно ли ненависть это? Уж не страх ли?
За что «вьюжный Христос» мстит Блоку? Какая вина висит на самом поэте? Чем является его последнее произведение – покаянной песней или эпитафией? Может быть, та знаменитая революция – всего лишь хорошо исполненная маска, за которой скрыта трагедия совершенно иного порядка?
Вопросов много – сможем ли ответить?..
* * *
О, как паду и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты…
Говорят, существует чисто поэтическое поверье – нельзя предсказывать в своих стихах свою же гибель: зачастую сбывается. Падал Блок или восходил – спор, собственно, обреченный. Скорее всего, его лучше всего назвать движением «вверх по лестнице, ведущей вниз». Его поэтическое мастерство, подчас даже пугающая виртуозность, его философское и историческое предчувствие – течение, несомненно, восходящее; но таким же мастером, если не более превосходным, был «безбожественный» и «безвдохновенный» Гумилев (ведь не случайно они схлестнулись именно в год своей смерти). В 1921 году их объединяло лишь одно – ни у того, ни у другого «божества» как раз и не было. Разница лишь в том, что Гумилев писал, Блок молчал.
Упрек же Блока (основа его знаменитой статьи) не столько акмеистам, сколько самому себе – за то безрассудное уничтожение своего идеала.
Зинаида Гиппиус, когда Блок читал ей стихи, будь то «Незнакомку», «Фаину» или цикл стихотворений «Родина», непременно и почти с восторгом замечала – «И здесь Она!» Вообще, мотив превращений, метаморфоз, персонификаций – мотив сказочный, идущий из глубин; тем-то он и привораживал. Пушкинский Гвидон, превращаясь то в комара, то в муху, затем снова принимал свой прекрасный «гвидонов облик». Идея (персонификация) Вечной Женственности у Блока «изменяла облик» многократно, но в последний раз, превратившись в площадную Катьку, воскреснуть в своем прежнем лазурном великолепии не отважилась.
Закатилась Ты с мертвым Твоим женихом,
С палачом раскаленной земли…
Почему его сказка не имеет счастливого конца? Почему Дева Мария с Младенцем на руках обречена видеть знамение:
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне?..
Все трекнижие Блока – это не просто череда персонификаций и превращений Вечной Женственности. Это особая, мрачная и жестока проверка Ее, это испытание – выдержит или нет? Блок бросает Ее в пучину земных страстей – выплывет или не выплывет? Он рассыпает Ее лазурь по петербургским грязным подворотням – воссияет или останется грязным булыжником на мостовой?
И вместе с тем Блок постоянно испытывает себя – останется ли он Ее пажом, в каком бы облике Она не являлась. «Полюбите нас грязненькими, чистенькими нас всякий полюбит…»
У Льва Шестова есть одно интересное замечание относительно творчества Достоевского: «Он /Достоевский/ договорился /со своей любовью/ до того, что человек должен полюбить даже Елизавету Смердящую». По всей логике низведения своей героини, Блок должен был привести Ее к этому уродливому порождению и тем самым совершить насилие над человеческой природой.
Чтобы спасти свою Героиню, Блок решился убить Ее. Возможно, что в этом он оказался чем-то похож на великого инквизитора, завершившего свою речь словами: «Во имя Твое завтра сожгу Тебя».
Блок словно подкожно почувствовал, что дальше низводить уже некуда; и любовь вот-вот готова обернуться ненавистью, черной злобой. А так, остаются слезы, нежная печаль, светлое воспоминание о лазоревом мире.
Впрочем, есть и еще одно измышление – Прекрасная Дама, вероятно, была далеко не книжным созданием: любой психоаналитик вывел бы из творчества Блока определенный комплекс неполноценности:
Что ты, Петька, баба что ль?
Можно было бы, следом за современной модой, упрекнуть во всем Любовь Дмитриевну, ждущей от великого небесного поэта обычного секса и домашнего уюта. В итоге, также следуя за модой, наказать обоих «за непонятливость»…
Блок словно вытравливал Прекрасную Даму из себя, и чем больнее он Ей делал, тем сильнее билось его сердце; было во всем этом какое-то особое сладострастие, такое, как у Достоевского в отношении страдания. Поэтому трекнижие Блока – это менее всего игра в Аполлона и Диониса, как это обыкновенно по-академически представляют. Это игра совершенно иного порядка.
В 1920 году, в марте, был завершен «заказной» очерк «Лермонтов». В нем есть одна чрезвычайно важная загадка – этот очерк является, пожалуй, самым неудачным во всей русской литературе, написанным на уровне примитивного школьного реферата (не удивительно, что он был забракован). Проницательность Блока всегда поражала многих – у него было не только интуитивное историческое чутье, он был способен найти сокрытые от обыкновенного взгляда поэтические глубины (как это было, например, в «Катилине» с оценкой Катулла).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: