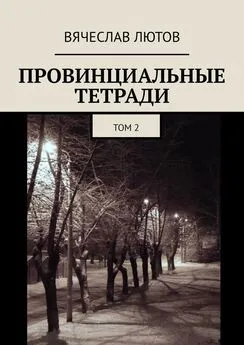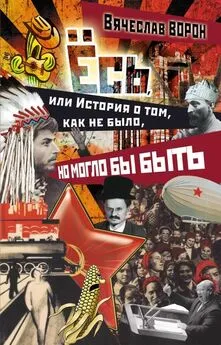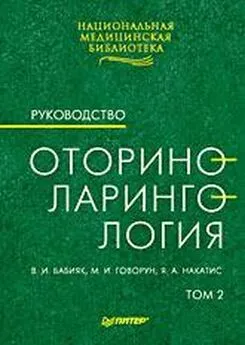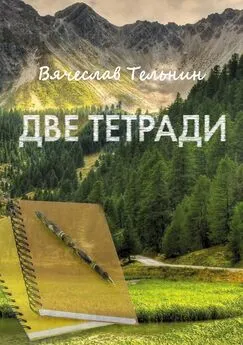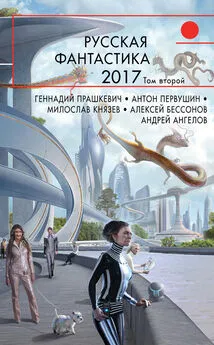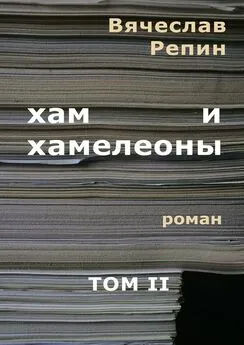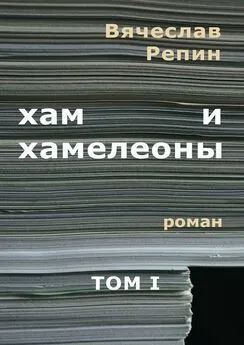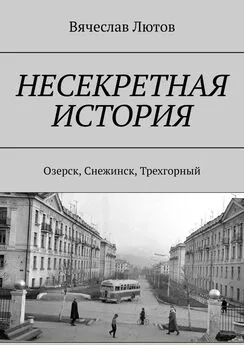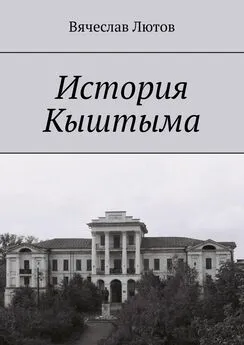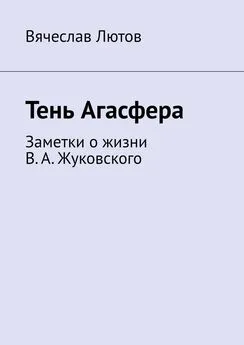Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 2
- Название:Провинциальные тетради. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449872289
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 2 краткое содержание
Провинциальные тетради. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
Пушкинская эпоха очертила еще один вид лирического философствования – мифологический, когда лирический герой как бы путешествует по времени и принимает облик далеких предшественников и мифологических героев. Таким путешественником был Батюшков.
Прекрасная Эллада, Рим, древние поэты – все воскрешалось, оживало, переплеталось с реальностью. Размышление о себе мифологизировалось, становилось философским рассуждением о Судьбе.
Представим ряд: Эдип, Нарцисс, Прометей, Зевс, Орфей и т. д.
Другой ряд: Гомер, Софокл, Овидий, Катулл…
Еще ряд: Константин Великий, Лютер, Аввакум…
Наконец: Христос, Будда, Магомет, Кришна…
Поэт ищет созвучие – к тому стремится его душа: кто станет его мифом, кто – предтечей, кто – героем, кто – богом. Из этих созвучий рождается аккорд, и этот аккорд – не только чувственное порождение, у него есть своя логика, настройка, без которой любой инструмент будет издавать лишь фальшивые звуки.
Откапывать исторические древности отправились символисты – к примеру, Вяч. Иванов, В. Брюсов. Воскрешение мифа неизбежно ведет к философскому его пересмотру (или хотя бы комментарию).
Широк и диапазон мифологической лирики – от осколков в пределах стихотворения или даже одной строчки до нового переложения старого мифа (как, примеру, воскрешение Заратустры у К. Бальмонта). Могут мифологизироваться не только персонажи, «герои», но и целые эпохи, целые конфессии, целые народы; мифологизируются исторические события – и вплетаются в поэтическую ткань. А символика, как известно, всегда философична; и мифология, если исходить из Платона, всегда будет стоять на страже и философии, и поэзии…»
Очень часто мифологическая поэзия воспринимается как интеллектуальная игра – постарался Джойс, ничего не скажешь. Но упрек поэту в неискренности – один из тяжких.
Совсем недавно произошел разговор (еще один) – не бывает ли со мной так, что кажется, будто твоя душа – не только твоя, но и еще кого-то? Да, бывает – мне не дает покоя Бунин (мой погодка через сто лет) – нет, не столько творчеством: чем-то иным.
Определить это что-то иное так же трудно, как и объяснить «принцип наложения душ». Разве что можно показать наглядно – мифологическая лирика, например…
* * *
Больной, сошедший с ума Батюшков писал стихи – бессвязный набор образов, символов, состояний, чувств. Мог ли предполагать он, что на излете ХХ века такие стихи станут нормой поэтического творчества, что цепочка (вернее, разбросанные ее звенья) частных индивидуальных восприятий и ассоциаций будет признана и позолочена элитарным сознанием?
Такой богатейший набор ассоциативных образов – у Бориса Гребенщикова: от сказочных драконов и мира зеркал до дверей травы и царства Бодхихармы. Как часто спрашивают: о чем он поет? Как ты вообще его слушаешь?
Поет – «ни о чем»; слушаю – с удовольствием.
Мне интересна сама синтагматика его песен – сочетание слов, образов, пусть иногда лишенная последовательности. Иногда хорош мифологический круг, в котором эти образы словно танцуют (лучший – круг Екатерины).
Б. Г. неоднократно говорил, что «Аквариум» – это не группа, а философия, это образ мышления; это – видения красивого холма…
Г. Гадамер, попытавшийся свести философию и лирику вместе, пришел именно к ассоциативности и случайности, к чистой лирике, где из звуковых фигур и «обрывков смысле» вдруг (по волшебству?) выстраивается целое. «Слова вызывают созерцания, громоздящиеся друг на друга, перекрещивающиеся, упраздняющие одно на другое… Из этой напряженности словесного поля, из напряжения звуковой и смысловой энергии строится целое».
Вот он – спаситель андерграундного мышления! Комбинация слов, лишенная смысла и вышедшая из настроения, поворота мозгов, из «листьев травы» все равно будет обладать целостностью – индивидуально-психологической. Это – ассоциативный лик человека, который уже не может стоять вне философии уже хотя бы потому, что это лик человека.
Ассоциативную лирику очень часто называют философской – вероятно, в силу ее туманности, зыбкости, парадокса и загадочной раздробленности. Но ассоциативная лирика пусть остается ассоциативной, а мы все же ищем философскую…
* * *
Из России в Англию переберемся: чтобы оправдать наш эпиграф, из Блейка.
В трясину мальчик угодил,
Кружа за светлячком;
Он закричал – но тут предстал
Господь: родным отцом.
Найденыша он приласкал
И к матери отнес,
Блуждавшей с криком в лесу великом,
Охрипшей от долгих слез…
Счастье Блейка в том, что он был художником – живопись требует изображения, а не рассуждения об Истине. Возьми идею – и нарисуй ее…
Именно зрение художника создало и заблудших мальчиков, и трубочистов, и обретенных дочерей, и розы, и лилии, и ягнят, и комья земли – все для того, чтобы показать в «Песнях неведения и познания» «два противоположных состояния человеческой души» (как Блейк сопровождает свое название).
И все-таки: почему бы Блейку не ограничиться своими «Видениями дщерей Альбиона», «Бракосочетанием Рая и Ада», «Французской революцией», наконец? Зачем ему понадобились какие-то «профанированные» ягнята и заблудшие мальчики? Написал бы лучше философский трактат «О двух состояниях человеческой души»…
Для Блейка важно было не сказать свою идею так, как она есть, а показать ее, нарисовать ее – заставить обыкновенные вещи работать в том ключе, какой необходим для философской системы Блейка. Эта работа меньше всего строится на ощущении, она не импрессионистична. Философская логика определяет движение поэтических образов.
Стихотворение как средство изображения философской идеи я и склонен относить к философской лирике.
* * *
Еще в начале разговора был поставлен вопрос: позвольте, а в чем специфические черты этой лирики?
Философская мысль в ее поэтическом выражении должна быть привязана к чему-нибудь, как бычок к колышку. Миру идей должен соответствовать предметный мир лирики. Ярким примером можно назвать пушкинские «Бесы», где бесовское кружение и гибель души человека однозначно привязаны к мутному небу, вьюге, летучему снегу:
Сбились мы, пути не видно…
Та же основа у «Медного всадника», где проблема власти, истории, личности в истории решается не вербально (Пушкин нигде не рассуждает об этом), а иносказательно. Философской лирике свойственен четкий параллелизм – идея закодирована в образах. История и личность как философские понятия спроецированы в образе Петра и образ сумасшедшего Евгения; отношения между ними – стихия, «пучина Петербурга». Если бы в схватке с Медным всадником победил Евгений, мы бы сказали: философская проблема решена Пушкиным в пользу личности. Если наоборот – значит наоборот. В этом смысле поэтический образ есть метафора, символ – означающее не есть означаемое. Медный всадник у Пушкина – это не фальконетов монумент.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: