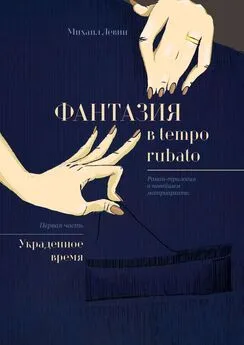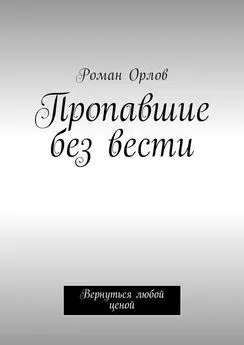Александр Левин - Считать пропавшим без вести. Роман
- Название:Считать пропавшим без вести. Роман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005094353
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Левин - Считать пропавшим без вести. Роман краткое содержание
Считать пропавшим без вести. Роман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Работы мужику тут хватало, и чувствовал он всем своим телом, всем своим разумом, что это его родная Мать-земля, которая и накормит, и напоит, и теплом своим согреет.
Около Вороны и появился сначала хутор Здрев (по фамилии основателей). Много людей переехало сюда на житьё – бытьё, разросся затишный угол. На левом, высоком берегу реки, заросшем непроходимыми кустами ежевики, стоял могучий лес-чаща, наполненный старицами и озерцами, по половодью превращающийся в одно сплошное море воды. Стали называть это поселение – Чащино.
Поначалу местные жители окуривали лесных пчёл и обустраивали борти для сбора мёда, драли лыко с осин на лапти, возделывали землю. В церковь ходили в соседнее село Коростелёво. Уж коростелей в этих «затопных» местах было много, и так назойлив был призыв этой птицы («крэкс-крэкс»), что его жителям и название того села не пришлось придумывать!
Недалеко от Коростелёво, за рекой, было место для выпаса скота, покоса сочной травы. Нелегко было туда добраться в весеннее половодье. Вода уходила долго. Вот и ждали-мучились. Оттого звали это место – Мучкан. Ну, а как построили на том берегу церковь, так и разрослось село – Мучкап.
Река трудилась вместе с мужиком, крутила колёса уже построенных в Мучкапе мельниц, поила скотину. Летом она радовала ребятню, подкладывала на крестьянский стол вкусную рыбу: красавицу-щуку, хитроумного подуста, больших лещей, желтопузых язей, усатых сомов, ярких краснопёрок, судаков по семь фунтов весу. Баловала его и стерлядочкой. В «холодной» комнате завсегда стояла кадушка с засоленной плотвой и чехонью.
Как работали, так и гуляли, отдавая животы на веселье. В хозяйских припасах имелся и «магарыч», и сало, домашняя колбаса, медовуха. В кадках дозревали солёные огурцы, помидоры и арбузы. Разномастные самодельные горшки дополна залиты ароматным варением. Гуртами лежала картошка, в ледниках – мясо. Кринки с молоком, сметаной, простоквашей, дозревающим в тряпочках сыром – всё умещалось в хозяйских кладовках.
А от сытости этой, да чего ж и не запеть? Всю народную премудрость и чувства переложили жители в частушки. Кто не слышал тамбовские частушки? То-то!
«Нюранюышка
– матанюышка,
Поыдь ко мне «начас»,
Распослдений рас!»
«Я надысь сваво встречаю,
Он картошычку нясёть.
Привычаю-привычаю,
А он глазым не вядёть!»
«Крутиысь мельниыца,
Крутиысь гладыкыя,
Я у мельниыка
Жина сладыкыя!»
И гулевали на свадьбах, крестинах, да по большим церковным праздникам. Отплясывали под гармони и балалайки. Где по дереву, а где и по земляному полу, отбивали лаптями ритм под Матаню. Кидали бобровы треухи в прихожей, благо «бобров в еньтих краях на кажну осину по два».
Малышня – на печах тискается к трубе ближе, да выглядывает из-за занавески: «Что там взрослые делают?» Сопливый молодняк на лавках у двери. Хозяин с хозяйкой во главе стола. Вот гости – кто самосад садит, кто спорит, разбирая старое. И у половины деревни света в окнах нет, не чадят карасинки, кажный второй дом вымер. А то как? Не позвали – обииида!
«Энтот диверь, энтот сваат,
Энтот кум, а ентот брат,
Ты, Матаня, кем мни будиишь,
Есля завтри приголубишь?»
А после – провожают друг друга до дома, наливая стременную кажный раз до утра. И уже не понятно кто-кого провожает, кум-куму или чёрт – Ягу.
Текла как мёд размеренная Чащинская жизня. Вставали затемно – Богу молились, чтоб не серчал за, вдругорядь, матерное слово. От натужного труда-то чего и не скажешь? Поднимали мальчишек-помощников, а то и нанимали работника: «Ишь, хлеба-то ноне вызрели, поди-ка управься!» Дуняша сама вставала, матери помочь по дому. Пока она кормит Аннушку, надо итить на двор, за коровами убрать, кизяки поворочить: «Пусть просохнут!» Они и горят жарко и на мазанку пойдут. В жару дом из них прохладный, а зимой тепло сохраняется.
«Вот и братья скачуь-скачуть, как оглашенные, чего-то про войну кричать»? Прискакали, поводья бросили, бегом к отцу: «Папаня, папаня, война с ерманцем!»
– Какая война? – так и застыл Силантий с топором у чиненного им загона.
– На станции, в Мучкапе, Лёха-а-а-то Кирсановский сказал. Поезд, как час отъехал, начальнику станции депешу передали, с печа-а-атями! – перебивая друг друга, рассказывали новости Иван и Илья.
– Ох, ядрёна мать! – отец левой рукой смахнул пот со лба, продолжая крепко сжимать в другой руке топор.
– Война-а-а, – протяжно произнесла Дуняша. Глаза её заблестели и покатились по щекам две крупные слезинки. Она прикрыла рот платком, сдерживая всхлип. Жалостливо глядела на братьев и отца.
Вышла из дома мамака с запелёнутой Аннушкой на руках. До её уха донёсся плач из соседских околиц. Она невольно сжала плечи, крепче обхватила дочку. «Слышь, мать, война с ерманцем», – тихо произнёс отец. Понеслись ручьём бабьи слёзы, захныкала и малышка. Горе. Война!
Завертелись, закрутились кровавые жернова. Через неделю прискакал с волостным чиновником усатый фельдфебель и забрал с десяток мужиков, годных к строевой службе в Мучкап. Там посадили в эшелон и повезли в Борисоглебск на формирование. Притаились тамбовские сёла. Война далеко, а хозяйство близко. Какая ж хозяйка будет рада отправить сваво мужука в енто горнило?
Но война не бывает без тыла, и царь-батюшка с Думой покупали у крестьян зерно, овощи. Надо же снабжать идущие на фронт войска! Вроде и горе, но крестьянину, ещё остававшемуся на земле – прибыток.
В 1916 году маховик войны раскрутился вовсю. Императорская армия уже сумела и успешно побить австрияков, и откатиться, из-за слишком растянутых тылов и фланговых ударов германских войск, назад. Наступало время знаменитого Бруссиловского прорыва.
Силантий был уже не молод и призыву не подлежал, а вот старший сын – Иван, пошёл в рост и через год попадал под мобилизацию. В горнило войны бросали всё новых и новых русских мужиков. А оно, то поглощало их навсегда, то изрыгало назад, покалеченных, контуженных. Иных томило в своём чреве, в плену, чтобы переродить их в семнадцатом-восемнадцатом году уже для другой – гражданской войны.
Летели и летели в города, сёла, деревни печальные известия. Приносили в дома тяжёлый груз, вчистую списанные по ранению фронтовики-земляки. Плакала русская земля слезами матерей, выла по-волчьи вдовьими голосами, холодела осиротевшими сердцами детей-ребятишек.
На дворе у Лычагиных Дуняша вывела за ручку малышку Аннушку, посадила на скамию, сама стала заниматься со скотиной. Прибежали соседские девчонки. И ну давай с ней забавляются, как с куклой. Учат пальчиком грозить, да платок повязывать. Эна, свеклой щёки и губки намазали, смеются, озорничают! «Ох, надо братьям сказать, – решила Дуняша, – чтоб разогнали они еньтих «сорок пустых»!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
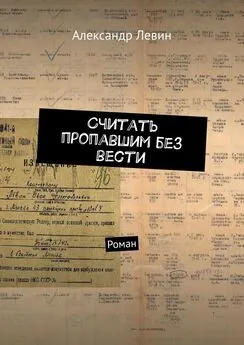

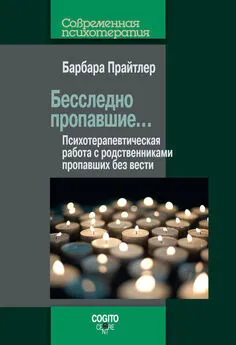
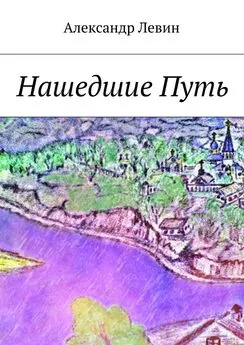
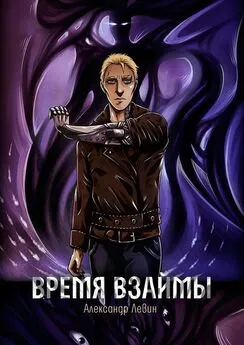
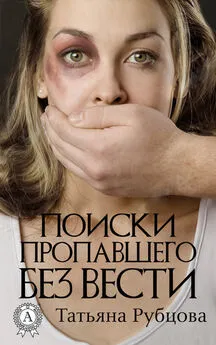
![Александр Левин - Танец вероятности [СИ]](/books/1082667/aleksandr-levin-tanec-veroyatnosti-si.webp)